Марат Шибутов - политолог, общественный деятель
Социальный прогресс и угрозы для общества
-Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Марат Шибутов (М.Ш.). И сегодня мы будем говорить о социальном прогрессе общества и угрозе радикализации. Вы можете смотреть нас на нашем сайте и канале Youtube. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессионал Казахстанско-немецкого университета, главный научный сотрудник КИСИ Ирина Александровна Черных (И.Ч.).
И.Ч. – Здравствуйте
М.Ш. – Начнем с простой вещи. Если говорить о радикализме и терроризме, он современное явление или это историческое явление, которое существовало всегда?
И.Ч. – Я думаю, что такие феномены как радикализация, экстремизм, терроризм – это не изобретение последних 10-15 лет, это процессы, которые уходят глубоко в историю. И чтобы понять глубину этих процессов, надо говорить о содержании терминов – что мы понимаем под радикализацией, экстремизмом, терроризмом. Есть много различных определений. Я не буду вдаваться в теоретические дебри, будем говорить проще. Для обычного гражданина попытаемся разветси эти понятия. С моей точки зрения термин «Радикализация» не должен нести никакой позитивной или негативной окраски. Это процесс, когда человек, исходя из каких-то ценностных ориентиров защищает свою позицию. Эта позиция может меняться, может усиливаться, человек может приходить к каким-то крайним точкам зрения на те или иные вопросы. До тех пор пока человек не совершает актов открытого насилия, не угрожает призывами, не делает явных актов насилия против человека, общества, государства, это абсолютно нормальный процесс. Любые реформы, которые производились во всех странах мира, это акты радикализации. Когда общество четко формулирует те или иные ценностные императивы и определяет, каким образом они будут защищаться. Когда мы выходим на экстремизм, мы здесь больше обращаем внимание не столько на содержательную часть, ценностные вещи – что мы защищаем, сколько – как мы защищаем. Экстремизм предполагает фокусировку на тех или иных методах защиты ценностных вещей. И здесь мы выходит на то, что экстремизм – как правило, агрессивные жесткие методы, при помощи которых продвигаются те или иные ценности. Терроризм – здесь тоже много определений, экстремизм и терроризм достаточно близки, потому что мы говорим об актах открытого насилия, терроризм предполагает массовые жертвы, привлечение общественного внимания извне. Поэтому это исторический процесс. Если мы будем смотреть на историю Европы и Америки, Азии и Африки, любого государства в мире, мы можем найти в исторической глубине все эти процессы. Партийные процессы, профсоюзные процессы, рабочая деятельность – это радикализация. Хотим мы этого или нет, это абсолютно естественные процессы, которые проходит человек, общество, государство.
М.Ш. – Хотелось бы спросить, если радикализация вне мейнстрима…
И.Ч. - Почему Вы говорите, что радикализация вне мейнстрима?
М.Ш. – Ну она же радикализуется по сравнению с чем-то? От центристской позиции, а центристская позиция по определению более многочисленная. А можем ли говорить, что у нас сейчас больше возможностей для отхода от мейнстрима или меньше?
И.Ч. – Я не совсем согласна с Вашим первым посылом. Потому что мы сегодня наблюдаем глобальный тренд, связанный с процессом радикализации. Потому что мы можем говорить о протестных движениях даже в очень развитых странах. Сегодня мы наблюдаем во Франции те же самые желтые жилеты. Есть некое нормальное стандартное поведение социума, это человек работает, получает образование, женится, рожает детей, приносит пользу обществу. Но в какой-то момент те или иные социальные группы понимают, что им нечто большего охота, что они хотят перестроить социум, что они хотят получить либо больше благ, либо изменения в законодательстве и т.д. И поэтому любой протест, когда общество или отдельные группы выходит на площадь с определенными целями и лозунгами, это уже радикализация. Общество от каких-то старых императивов переходит к новым императивам.
М.Ш. – А вот тут я начну спорить. Сколько сейчас во Франции живет людей? 50 млн. Выходит движение «Желтые жилеты». Сколько их там человек? 50, ну 100 тысяч. Вот они радикалы нынешние. Но, с другой стороны, мы помним, что во Франции были религиозные войны 16 и 17 века, в которых участвовало чуть ли не полстраны. Потом крестьянские восстания и т.д. И получается, что тогда были массовое вовлечение в радикализацию,
И.Ч. - В насильственную.
М.Ш. - … в насильственную радикализацию, в экстремизм, терроризм. Типа Варфоломеевской ночи. Гораздо больше населения чуть ли не 25-30% населения только и занималось тем, что резало друг друга. И вопрос такой – может, все-таки, радикализация меньше стала? Допустим, Чехия – атамиты, табариты – люди голыми бегали…
И.Ч. – Я соглашусь с Вашим посылом, если мы берем глубинную историю и сравниваем ее с современностью, то да, радикализация снижается. Но если мы возьмем поствоенный период, после Второй Мировой войны, когда в принципе западные страны строили либеральную демократию и создавали государство всеобщего благоденствия, где рос средний класс. А это определенная система ценностей, определенные запросы. И государство соответствовало этим запросам, могло их обеспечить и у населения не было желания что-то требовать. Сейчас, когда идет трансформация среднего класса, идет изменение их потребностей, роли и функции государства, мы наблюдаем всплеск радикализации последние 5-10 лет. Если мы возьмем короче исторический период…
М.Ш. – Где-то с 70-80-х годов?
И.Ч. – Да. И еще один момент. Да, я соглашусь, что есть достаточно активная часть общества, и которая начинает действовать в легальном поле, но здесь надо обращать внимание на поддерживающих. Какой процент разделяет эту идеологию, но по тем или иным причинам не идет ее очень жестко отстаивать. К сожалению, у меня нет данных по той же самой Франции, но я думаю, что достаточно большой процент населения сегодня имеет запрос на социальную справедливость. И даже если они не выходят на активные акции, они могут разделять новые запросы общества на социальную справедливость.
М.Ш. – Мы же имеем дело с определенным сегментом? Движениями, которые не ставят целью социальную справедливость, а ставят какие-то идиотские цели. Помните, секта скопцов?
И.Ч. - Честно говоря, лично не знакома.
М.Ш. – А 150 лет люди просто отрезали себе половые органы, причем, это считалась богатая секта, которая имела огромные деньги. Она преследовалась, но тем не менее 150 почти 200 лет она жила. Цели могут быть иррациональны? И не то что в экономическом плане, а прямо физически иррациональны.
И.Ч. – Вот здесь мы выходим на другой пласт проблем и феноменов, которые мы сегодня обсуждаем. А как, по каким причинам, какие факторы влияют, какие драйверы движут теми или иными людьми, которые радикализируются, выходят на терроризм и экстремизм. И здесь тоже нет однозначного ответа. Потому что сам феномен радикализации и экстремизма с одной стороны многими исследователями изучается, с другой – нет единой точки зрения и подхода, как это происходит. Процесс радикализации крайне индивидуален. В одних и тех же условиях… Нельзя генерализировать внешние факторы среды, характер политического режима, экономический уровень, потому что в одних и тех условиях мы можем получить людей, которые радикализируются и идут на открытый экстремизм и терроризм, и в этой же самой среде другие люди ведут себя нормально с точки зрения того, о чем мы говорим, живут нормальную жизнь с точки зрения законов и морально-нравственных императивов в обществе. Поэтому, когда та или иная группа выходят на радикализацию, всегда надо очень конкретно надо изучать этот феномен. И он может быть феноменальным. И он может нигде ни в какой стране больше не повториться. Мы очень часто как исследователи генерализируем, выдвигая целый перечень факторов. Есть классификация. И в данном случае это по сути не работает, когда мы анализируем конкретные кейсы. И когда мы говорим о профилактике экстремизма и терроризма, здесь очень индивидуальный, очень локальный подход, когда мы должны анализировать конкретные кейсы и не выходить ни на какую генерализацию.
М.Ш. – Получается, наука говорит о том, что она бессильна.
И.Ч. – В данном случае, если анализировать, когда радикализируются большие группы людей, очень сложно говорить о том, почему это происходит. И очень сложно выходить на какие-то общие факторы. Кстати, все кто занимаются исследованиями феномена радикализации, экстремизма и терроризма, говорят, что самым сложным кейсом для анализа, изучения и предотвращения является кейс одиноких волков – alone wolf. Это очень устоявшийся закрепленный термин. Если спецслужбы и исследователи могут проанализировать и вести малые группы, готовящие экстремистские акции и теракты, и есть определенные алгоритмы поведения и схемы, то alone wolf это настолько феноменальная вещь, когда мы не можем просчитать, что это будет за человек, почему он пришел к необходимости совершить тот или иной противоправный акт, что повлияло, что являлось драйвером. Это могут быть незначительные ситуации, которые для других могут быть незначимыми. Но для каждого конкретного, идущего на индивидуальный теракт, это значимая ситуация. Есть исследования, которые говорят, что одинокие волки в детстве проживали в семьях, где было семейное насилие, где были агрессивные папы, мамы, которые не любили ребенка, совершали акты насилия против него. Вот этот фактор – человек, выросший в семье, где практиковалось насилие, будет идти на теракты и будет входить в категорию одиноких волков. Но говорить, что все дети, выросшие в таких семьях – террористы или одинокие волки, - мы не можем.
М.Ш. – Это достаточно натянутое…
И.Ч. - Здесь есть статистика в разных странах, которая говорит, что да, больший процент детей, выросших в семьях, где было насилие, идет на теракты или экстремистские акты. И статистика как аргумент, хотя…
М.Ш. – Будем честно говорить, они просто смотрели биографии, что их объединяет. Нашли один фактор и двигают. А то, что в Норвегии, допустим, несколько миллионов человек, несколько сот тысяч семей, где было насилие, а Брейвик один. Получается, что из семьи с насилием выйдет Брейвик, а там, допустим, не два после трех нулей, а два и пять…
И.Ч. – Я соглашусь, что мы на этой статистике не сможем строить абсолютно никаких прогнозов, это абсолютно натянутые вещи.
М.Ш. – Или вот этот – новозеландец – 50 этих ушатал… И (неразбочиво) – 168 человек, один. Некоторые одиночки гораздо результативнее… Опять надо посмеяться над нашими террористическими группами, которые годами что-то делают, а потом у них большее количество убитых, потому что они мины собирать не умеют, и сами взрываются… Такая смешная вещь.
И.Ч. – Если мы говорим о нашем регионе, о Казахстане, то это благо для нас…
М.Ш. – Что они бестолковые…
И.Ч. – Что они непрофессиональные, неподготовленные. И по рейтингам – вы знаете, что есть глобальный рейтинг терроризма, - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан входят в группу «Низкий-средний уровень», а Узбекистан и Туркменистан – низкий. Крайне низкий уровень терактов, жертв, ущерба
М.Ш. – Сравнить как Брейвик, который мог после теракта свалить, он же просто сел и остался. Если бы он захотел, он мог бы уйти с острова, поехать в другой город, учинить еще бойню. Может, это быть третий теракт ему удался бы, его бы взяли на четвертом-пятом.
И.Ч, - Брейвик был четко идеологически ориентирован, своя система ценностей, имел четкую концепцию и был уверен, что делает абсолютно правильные вещи, что и страшно.
М.Ш. –Мы же видим, что успех правых партий в Европе все равно случился.
И.Ч. – А это вопрос, кто поддерживает те или иные ценности.
М.Ш. – Люди начали читать, политический месседж он послал мощный.
И.Ч. - Поэтому вопрос, что должно делать общество, чтобы с одной стороны, услышать политический месседж тех или иных групп, а с другой стороны, чтобы этот месседж был услышан в реальном законодательном нормальном пространстве. И решался с точки зрения существующих законодательным норм. Вот в этом задача любого общества. Мы можем говорить о факторах, драйверах, условиях, но не это главное. Для любого общества и государства важно говорить о том, а что мы должны сделать, чтобы такие вещи не случались.
М.Ш. – Мы же помним, что Тимати Маквей взорвал супермаркет не просто так, а в рамках протеста против штурма долины Уэйка. Когда ФБР начало штурмовать, и в результате заживо сгорели 7-80 человек, причем, с детьми. Брейвик начал свой теракт против – у нас не знают – диктатуры посредственности, которая характера для скандинавских стран. Там застоявшаяся политическая модель, которая не отзывалась на население. Монополистическая. И Нова Зеландия – миграционная политика Новой Зеландии тоже давала приоритет не тому, кто нужен, а чтобы показаться хорошими избирательно. Они делали пропаганду, не думая о населения. Тех же – он там расстрелял кого – бангладешцев. Японцы не могут переехать в Новую Зеландию, с России и Казахстана тоже трудновато, а бангладешцев мы берем спокойно.
И.Ч. – Опять мы выходим на то, что политика, эффективность политики государства по всем вопросам для общества. Миграция – чувствительна для любого общества, влияет на идентификационные основы общества. Кто мы есть, наши граждане. И как люди, которые приедут к нам и будут жить с нами, будут на нас влиять, что они принесут нам плохого, хорошего. Государство должно очень четко продумывать миграционную политику, это не только ответственность государства, это ответственность любого общества. Я согласна, что миграция чувствительна для любого общества, но я не стала бы секьюритизировать миграцию.
М.Ш. – Нет, это не миграция… Получается, что это был крайний ответ на недовольство. Тот же Маквей – там не миграция же, а произвол силовиков.
И.Ч. - Возникает вопрос: тот или иной одиночка, который совершает теракт – он выражает свою позицию таким образом. И может быть, позицию какой-то малой группы или большой группы. Но не факт, что все население абсолютно так будет относиться к этой позиции. И если уж мы затронули вопрос миграции: есть определенные группы в любой стране, которые негативно относятся к миграционным процессам, но при этом большинство населения спокойны помогают людям, способствуют их адаптации. У меня есть друзья исследователи из Германии, мне было очень интересно с ними обсуждать ту самую миграцию с Ближнего Востока в контексте сирийского кризиса. Интересно наблюдать, как представители разных социальных групп и слоев относятся к тому, что сейчас в Германии более 1300 000 человек находятся, пытаются адаптироваться, правительство пытается помогать, селектировать. Сейчас уже более жестко начинают реагировать на эти вещи. Мои наблюдения: если это человек - специалист-исследователь – отношение абсолютно нормально, и человек мыслит в категориях «что мы можем сделать, чтобы адаптировать человека, какие меры государство и общество должно принимать, чтобы минимизировать негативные последствия». Если человек сам является мигрантом, приехавшим в Германию 10-15 лет назад, как правило, эта категория людей крайне агрессивно настроена против последующих волн…
М.Ш. – Конечно, это же их конкуренты…
И.Ч. – Абсолютно. Во-вторых, они сами, пройдя путь мигранта, понимают, какие есть сложности, подводные камни и течения, которые могут повлиять на твой статус, поведение. Публика, с которой общалась я – это исследователи. Они крайне открыты для миграции. И они работают не только как исследователи, давая рекомендации, что с этим делать, но и как социальные активисты. Они создают лагеря для беженцев, они обеспечивают продуктами питания, одеждой.
М.Ш. – Вопрос – а могут ли они после этого называть себя исследователями, если они являются социальные активистами и вовлекаются внутрь процесса? Это же получается абсолютно неквалифицированная, на мой взгляд… Я бы, допустим, будучи грантодателем или рецензентом, эту работу сразу спустил бы в мусорную корзину.
И.Ч. – А я вам скажу, что это полевые исследования. Для исследователя работать в той среде, о которой ты пишешь, это полевые исследования.
М.Ш. – Это называется эксперимент, по сути дела муравьиная ферма, которую они устроили – кролики, мышки, мигранты с Ближнего Востока.
И.Ч. – Но над ними не проводят опыты, чтобы говорить, что это эксперимент…
М.Ш. – Когда ты организовываешь для них среду, ты уже проводишь над ними опыты.
И.Ч. – Я не соглашусь, это не опыты над мышками или крысками. нПростите, а у нас есть другие механизмы, как с ними работать? Ну давайте, начнем расселять их по домам и квартирам, подселять в каждую семью.
М.Ш. – Не подселять, а расселять – да.
И.Ч. – И это делается, и в Германии это делается, используются целые районы, выделяются дома и квартиры. Но при этом по-разному местное сообщество реагирует. У меня есть приятельница, которая 15 лет живет в Германии, двое детей, она переехала из Казахстана. Она мне сказала: ты знаешь, когда я узнала, что в нашем районе появляются арабы – мне стало страшно. Я говорю – почему тебе стало страшно? Она говорит – потому что я не хочу, чтобы мои дети росли в этой среде. Я спрашиваю – а что именно страшно.
М.Ш. – Конечно, что им может быть страшно, когда у них уже есть албанцы.
И.Ч. – Но вот здесь начинается тот самый идентификационный фактор. Она говорит - это не наша культура. Я ей говорю – дорогая, а твоя культура - это что? Ты сама эмигрантка, ты пятнадцать лет живешь в Германии. У тебя настолько микс ценностей и поведения, чем тебя пугают арабы. И она не смогла ответить, потому что у нее на уровне обывателя есть этот страх перед арабами. Потому что есть СМИ и фильмы, которые создают страшный образ врага в лице этих пришлых людей. Другие говорят – да нет, все нормально! А кстати, что сегодня делает Германия? Я знаю, что очень долго критиковали саму Ангелу Меркель, за то, что открыла двери и так далее. Но вопрос в том, что немцы сегодня поняли, проведя ряд исследований, работая в общинах, делая полевые исследования, понимая, кто к ним приехал, пришло осознание, что к ним приехали очень разные люди. Например, что приехал парни 30-35 лет – их большинство – которые не владеют грамотой на арабском языке, которые не могут читать и писать на родном языке. И здесь возникает вопрос, а кто это? Но я бы не стала сразу секьюритизировать и сразу говорить, что вот они – foreign terrorist fighters, которые насадили Германию, или иностранные боевики.
М.Ш. – Мы же все знаем, что иностранные боевики из Бельгии.
И.Ч. - Это же второе поколение мигрантов, которое выросло, социализировать в Европе. Значит, они чувствовали свою уязвленность, если они начали выступать против существующего режима. Они говорят на арабском, но не имеют функциональной грамотности. Ту грамотность, которую имеем мы с тобой, дети, которые учатся читать и писать. И немцы сегодня говорят, что вот этих мы будем отправлять. Мы будем работать только с детьми, которых можно социализировать в Германии, которые пойдут в наши детские сады и школы, получат наше образование и они станут немцами. Вот с такими детьми, которые потеряли родителей, и с родителями в том числе, но мы делаем ставку на молодое поколение, которое будет нашими гражданами. Остальных мы будем потихонечку просить выехать из страны. И это нормально – селективный подход.
М.Ш. – Селекция?
И.Ч. – Не надо меня ловить на словах. А почему нет?
М.Ш. – Когда с крысками работают, там есть чистая линия… Хорошие линии и…
И.Ч. – А посмотри с чего ты начал про миграцию в Новой Зеландии. Любая страна через эффективную миграционную политику защищает свою идентичность. Канада, Штаты, да любая страна, даже та же сама Австралия, мы берем тех людей, которые нам нужны …
М.Ш. – Или которых очень жалко.
И.Ч. – Или да, которых очень жалко.
М.Ш. – Мне просто стало интересно, что это за чуваки, которые не пишут на арабском?
И.Ч. – Это люди, которые не прошли обучение в школах.
М.Ш. – Это, видимо, районы, наиболее пострадавшие от Иракской войны. Это очень отставшие. Я не видела профайлы этих людей, но установка была такая, что приехал очень большой процент населения, который не обучался в школах. Которые не имеют элементарной грамотности. И понятно, что ты в этой стране с тридцатилетним мужиком делаешь? Ты его начнешь обучать немецкому языку? А факт, что этот человек сможет получить образование на чужом для него языке? Не факт. И второй: Германии сегодня не нужен неквалифицированный труд. У них даже улицы метут не метлами, а на машинах. И это уже функциональная грамотность, человек должен иметь определенные навыки. И возникает вопрос: что нам делать с этими людьми, которых мы уже не сможем интегрировать в наше общество и они нам не нужны как рабочая сила. И я считаю, что это абсолютно сбалансированный подход.
М.Ш. – Вопрос: у нас есть большая статистика общего статистика общего снижения убийств по миру, и вообще снижения насилия. Убийств стало меньше, да и в Казахстане стало меньше. Это связано с тем, что народ меньше бухает, больше смотрит телевизор, развлекается, у него есть порнуха. Менее брутальный становится. Есть чем себя занять кроме мордобоя и суицидальных приключений. С общим снижением насилия в обществе будет ли у нас общее снижение радикализации в обществе.
И.Ч. – Наверно, да. Если человек сам себя убивает, это, наверно, крайняя степень саморадикализации, я не берусь давать какие-то определения этим процессам. Я же говорю о радикализации как о естественном процессе. И если хочешь, как о процессе, который будет двигать процесс. Мой основной посыл – нам не надо рассматривать радикализацию как негативное явление.
М.Ш. – Радикализация имеет вторую сторону как разнообразие.
И.Ч. - Это изменение существующего вокруг мира. Вопрос заключается в том, как мы его меняем. Если мы выходим на насильственные вещи, это уже уголовный процесс, с этим надо работать разными способами, в том числе привлечением к уголовной ответственности. Но если человек говорит: я хочу изменить мир к лучшему в соответствии со своими ценностями и ориентирами, то почему мы должны мешать этому. Радикализация как нейтральный процесс - это двигатель изменений структурных реформ. Мой посыл в этом. Надо менять дискурс относительно радикализации, надо говорить об этом как о естественном процессе. Когда человек начинает отстаивать свои права – это тоже радикализация. Можно, я приведу конкретный пример? Вот несколько дней тому назад у меня в автобусе вытащили сотовый телефон, и я видела, как это произошло. Меня сделали за несколько минут, я не успела проехать установку. Причем, это второй телефон за четыре месяца. Мои друзья говорят: а что ты не ездишь на такси? И у меня встал вопрос, почему я должна бояться в своей собственной стране, входить в автобус и бояться, что какой-то подонок залезет ко мне в сумку. Я хочу жить свободно в этой стране и не бояться, что меня кто-то сейчас здесь сделает. Вопрос: мы даже не доехали до следующей остановки, когда у меня из сумки практически на моих глазах вытащили телефон. Я попросила водителя не открывать двери и вызвать полицию. Водитель этого не сделал. И пять человек, которые со мной сделали «коробочку», со мной сыграли «в футбол», меня подпихивали и толкали, я была в статусе футбольного мячика, а потом у меня взяли мою карту Онай, прислонили ее, отметив, что я проехала. А потом, когда я отвлеклась на карту, у меня из сумки вытащили сотовый телефон. И я ничего не смогла сделать. Вот теперь: рассуждаем с точки зрения процесса радикализации. Естественно, меня эта ситуация выбила из колеи, естественно, у меня шла страшная агрессия на этих людей, которые окружали меня, сочувствовали меня, это была бригада… Причем, когда в первый раз у меня вытащили телефон, это тоже была бригада. И когда эта бригада вышла из автобуса, все загудели – да, и со мной такое было. Я пошла восстанавливать номер, и я спросила у оператора, который обеспечивает мне сотовую связь – сколько человек в день обращается по поводу восстановления номера из-за ворованного телефона. Человек напрягся, я говорю – человек 10 есть в день? И мне было сказано – вы что, намного больше. И это только один офис сотового оператора. И я могу предположить, что это, действительно, серьезная проблема для горожан. Мои действия – я пошла в РОВД, сделал заявления, я действовала в рамках правового пространства. Если я сейчас начинаю радикализироваться, я создаю бригады, мы начинаем мониторить автобусы, вылавливать этих подонков и с ними расправляться. Чувствуешь разницу? Когда я говорю просто о радикализации – я хочу жить в безопасном городе, безопасно ездить в автобусах, я хочу действовать в правовом поле. Но как только я выхожу на насилие относительно этих людей, совершающих криминал, я выхожу на действия открытого экстремизма и это карается по закону. Но это двигатель.
М.Ш. – Позавчера, когда у нас были слушания в Общественном совете, пришел первый замакима, Аукенов, Даурен поднял этот вопрос. Потому что огромное количество жалоб на карманников. Аукенов сказал, что все в курсе. Они сдают фото, я просто знаю, на сайте ДВД они… И сейчас будут камеры, как только эти люди заходят в автобус, на следующей остановке уже будут…
И.Ч. – К вопросу о профилактике этого нарушения. Я думаю, что надо еще проводить среди водителей автобусов. И это очень важный вопрос, потому что именно водитель автобуса мог бы мне помочь. И если бы он вызвал полицию и не открыл двери, полиция бы решила этот вопрос. Но человек сказал: у меня график, я не могу опаздывать. Я все понимаю, у человека график, он работает, он должен соответствовать обязанностям. Но у нас должен работать принцип нулевой терпимости, о чем говорил Елбасы. И это тоже проблема профилактики радикализации, потому что если люди понимают, что это массово становится проблемой для нас, мы должны все работать над устранением.
М.Ш. – Иначе у нас будет, как в странах Африки – вытаскивать из автобуса и забивать камнями.
И.Ч. – И это уже будет насильственный экстремизм, который карается по закону.
М.Ш. – У нас были такие случаи, когда таких воров били на барахолках, и никаких последствий не было, потому что заявления тоже не было.
И.Ч. – В любом случае, это насилие.
М.Ш. – И поэтому мы говорим, что власть, элита довела до такого состояния. Фактически, если вовремя упреждать, никакого насильственного радикализма и быть не можем. Мы можем жить при нулевом насильственном радикализме, когда ни одного случая радикализма не будет десятками лет.
И.Ч. – И в этом должно участвовать общество. Оно не должно быть сторонним наблюдателем, когда с кем-то что-то происходит. Оно должно включаться во все процессы и оказывать помощь.
М.Ш. – Как-то мы вместе с народом ночью ловили чувака, который украл сотовый телефон. Мы его загнали под машину. Он под машиной сидит, мы его оттуда вытащили, отобрали телефон.
И.Ч. – Вы же его не били, надеюсь.
М.Ш. – Мы не били, потерпевшая била.
И.Ч. – И это уже насилие.
М.Ш. – Она не сильно била. Вообще, когда толпой ловишь воришку, включаются охотничьи инстинкты, аля-улю, суд Линча, очень интересные вещи из подсознания прут.
И.Ч. - Я в любом случае против этих вещей.
М.Ш. – Мы все против этих вещей. Не думайте так делать…
И.Ч. – Это должно решаться в правовом поле.
М.Ш. – Абсолютно верно. Но прикольно было. Но бывает так, что это как с теми же гетто мигрантов китайскими – когда не наводит порядок полиция, наводит порядок (неразборчиво).
И.Ч. – Это традиционные институте, которые, наверно, легитимны для определенных сообществ
М.Ш. – Это же как «человек-земля-небо». Тройственный союз. Они же были светлые люди, повстанцы, Робин Гуды.
И.Ч. – За справедливость…
М.Ш. – За справедливость, национальные ценности, против угнетателей. А потом как-то трансформировалось и совсем другие криминальные структуры.
И.Ч. – Давайте поговорим про профилактику.
М.Ш. – Надо так, чтобы у нас не было сумасшедших экстремистов и не переходило грань насильственного. Что надо делать?
И.Ч. - Здесь очень много, о чем можно поговорить. И в Казахстане уже очень многое делается. Но самое главное, о чем надо думать – при минимизации негативных последствий от экстремизма, надо вырабатывать про-активный подход. Не реагировать на то, что уже сделано, а смотреть вперед. Мне нравится моя идея – для Казахстана было бы актуально вводить новый дискурс культуры ненасилия. Мы говорим о нулевой терпимости. И это из этого же ряда. Когда человек, проживающий в Казахстане, прошедший социализацию, получивший образование, не может действовать какими-то насильственными методами. Это должно претить нашей культуре и образованию. Я смотрю, как ты на меня сейчас смотришь хитро. Может, это моя розовая мечта. Но я уверена, что если организовать процесс профилактики радикализации на долгосрочную перспективу, можно вырастить поколение, которое будет работать в культуре ненасилия, и иметь навыки решения проблем через переговоры, медиацию, но не через применение насильственных практик.
М.Ш. – Я думаю, что это очень осуществимая вещь. Сейчас массовую негативную реакцию в республиканских СМИ дают происшествия, которые в моем детстве были нормальными вещами.
И.Ч. –Например?
М.Ш. –Массовые побоища, школа на школу, вымогательства, избиения… Это же абсолютно нормально было
И.Ч. – Мне кажется, что нового появляется – раньше были «стенка на стенку», сейчас взрослые и дети становятся более индивидуализированными. Я смотрю по своему ребенку. Я как-то сказала: позвони своим друзьям, узнай… Он сказал – а у меня нет их номеров. При этом говорит, что мы дружим, что у нас хороший класс. Но при этом каналы общения стали совсем другими. Наши дети становятся больше индивидуалами. И поэтому сейчас появляются такие практики как индивидуальный троллинг, буллинг. Даже слова другие появились, в нашем детстве таких слов не было. Хотя остались групповые практики выяснения отношений. Но все-таки идет индивидуализация мальчиков и девочек, которые ведут себя совершенно иначе. В этом смысле школа… У ОБСЕ, которые очень много занимаются профилактикой экстремизма, в том числе в молодежной среде – у них есть классный термин, они полицейских называют «первая линия защиты». Что такое первая линия защиты? Это человек, который в большей степени вовлечен в предотвращение, и он может наблюдать, что происходит вокруг и реагировать на шаг вперед. В Казахстане мы можем говорить о первой линии защиты – школьные учителя. Классные руководители, которые каждый день встречаются со своими детками, видят, как они себя ведут, видят изменения в поведении, могут фиксировать изменения в поведении. Конечно, в том числе и школьные психологи. И вот здесь правильная организация психологической помощи, правильная организация работы учителей по раннему выявлению отклонений в поведении – это крайне важный момент. В нашей школе много делается по этому поводу. Недавно нас собрали в школе и раздали памятки, и я была приятно удивлена, когда вышли два школьных психологов, и раздали очень качественную памятку для родителей, что должен фиксировать родитель, какие изменения в поведении своего ребенка, и что с этим делать, куда с этим обратиться. Причем, великолепный язык, отработанный текст, качественно составленный. И я эту памятку положила к себе папочку, чтобы при необходимости брать клише оттуда для рекомендаций для работы в этой сфере. Мы работаем с нашей молодежью. Я не уверена, что это делается во всех школах. Но второй момент – когда мы говорим о профилактике, самое важное – это локальный подход. Здесь нам надо говорить о сообществах безопасности на локальном уровне. И роль участковых полицейских меняется, роль главы КСК, роль местных активистов меняется. Все эти люди должны быть вовлечены в процесс и понимать, что с этим делать, если вдруг что-то произошло в локальном сообществе. Если вдруг появились какие-то интересные люди, которые непонятно чем занимаются, если вдруг на заборе появились символы, нарисованные молодежь, живущей в этом дворе.
М.Ш. – Это не символы, а скорее реклама телеграмм-каналов, где торгуют наркотиками.
И.Ч. – Кстати, как работают бельгийские полицейские. Почему для ОБСЕ полицейские – первая линия защиты. Они начали изучать в различных районах, особенно не очень неблагополучных, а какие символы рисуют на стенах. И оказалось, что это просто цветочки, лютики, одуванчики, а это реальные символы определенных экстремистских организаций, закрытых групп. И когда ты понимаешь, кто живет в этом районе, что с этим делать, какова идеология этих экстремистских групп и кто поддерживает, ты обращаешь внимание на это. И это локальный подход – анализировать сообщество.
М.Ш. – У нас в детстве названия районов писали, подростковые банды.
И.Ч. – Эта социализация очень важна для мальчиков. Когда мальчик проходит школу консолидации с кем-то, отстаивания своих прав.
М.Ш. – У нас многое из того, что ВЫ говорите, собирались сделать. Например, идея чтобы КСК сотрудничали с полицейскими, чтобы добровольные помощники полиции было, чтобы КСК могло вмешаться в семейные скандалы. У нас общество настраивается на такие вещи, уровень насилия снижается.
И.Ч. - Я соглашусь, что общество настраивается и более внимательно относится к процессам происходящим вокруг. Но здесь в любом случае необходимо работать с населением. Одно дело, когда мы видим, что это личная потребность общества – наблюдать, что происходит вокруг. Другое дело, когда тем же самым представителям КСК или социальным активистам придет специально подготовленный тренер, который скажет – давайте я с вами проведу тренинг, где будет очень четко показана критическая ситуация, как реагировать, что делать.
М.Ш. – У нас государство оплачивает прямую линию для детей и подростков, я забыл, правда, номер.
И.Ч. – В семьях где идет насилие, ребенок может позвонить.
М.Ш. – Он может позвонить, если надо, тут же обратится в органы. У нас есть спонсируемые акиматом и бизнесменами кризисные центра, куда могут пойти кому некуда идти. Надо просто популяризировать эти практики, и тогда у нас радикализма станет меньше.
И.Ч. – Соглашусь, что популяризировать надо, но наше министерство общественного согласия может немного более пристально смотреть на проблему профилактики особенно экстремизма среди молодежи, и формировать специальные проекты, и эти проекты должны быть массовыми и рассчитанными на локальные сообщества.
М.Ш. – На этой оптимистичной ноте мы и закончим. Мы можете смотреть ее на нашем сайте radiomm.kz и на нашем Youtube-канале. У нас в гостях была доктор исторических наук, главный научный сотрудник КИС, профессор Казахстано-немецкого университета Ирина Черных. Спасибо вам всем, до свидания.




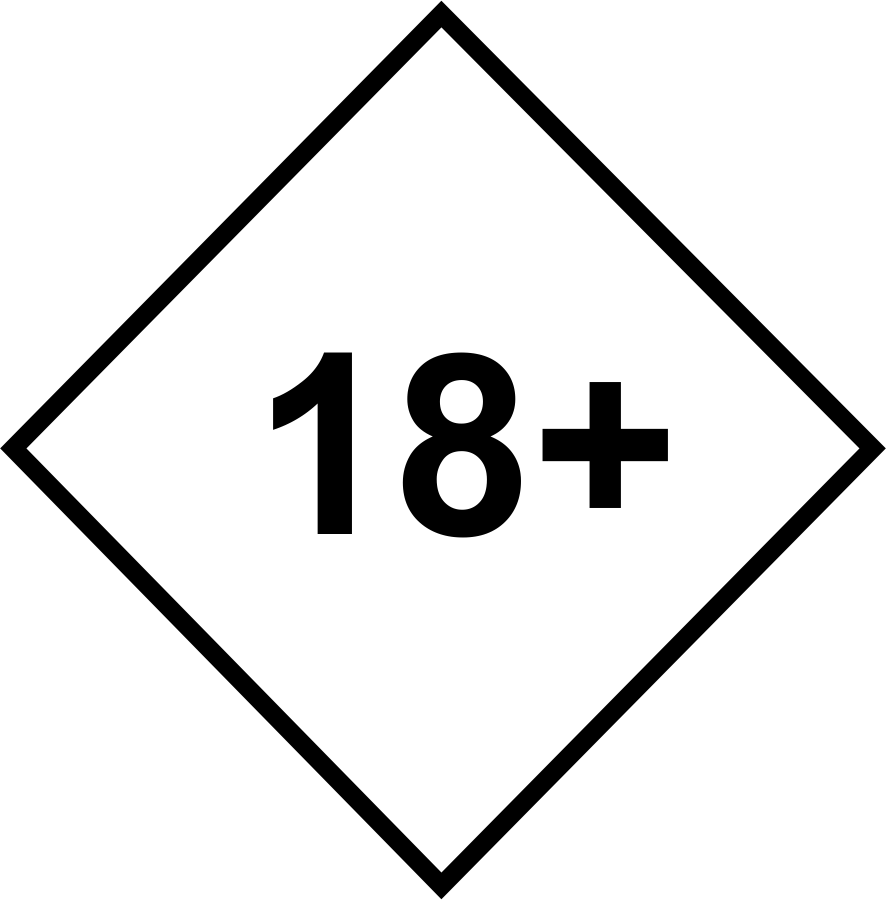 E-MAIL:
E-MAIL: