Марат Шибутов - политолог, общественный деятель
Диалоги с Маратом Шибутовым:
«Радикализация молодежи в современном обществе
и факторы, которые на это влияют»
Марат Шибутов (М.Ш.): Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует Марат Шибутов. Сегодня наша передача у нас последняя перед Новым годом. Поэтому я поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам удачи, здоровья, благополучия. И, конечно, смотрите наши передачи. Напоминаю, что вы сейчас смотрите нас на радио Медиаметрикс Казахстан, а также на нашем канале в Youtube. Сегодня наша передача посвящена теме «Радикализация молодежи в современном обществе и факторы, которые на это влияют». В гостях у нас наш старый друг – это Рустам Бурнашев, политолог, профессор Казахстанско-Немецкого университета, специалист, в том числе, и по безопасности. Здравствуйте, Рустам!
Рустам Бурнашев (Р.Б.): Здравствуйте!
М.Ш. – У нас тема такая достаточно простая и достаточно, так скажем, хайповая, как говорит молодежь. Все почему-то хотят, я вот сколько ни вижу передач, все говорят «ну как бы наша молодежь ни радикализировалась». Откуда пошел стереотип о радикализирующейся молодежи, которая обязательно пойдет все громить, свергать и так далее?
Р.Б. – Наверно, четко ответить исходник исторически – это надо исследовать. Но если взять историю той глубины, которую мы знаем, которая нас так или иначе затрагивает – мне кажется, это происходит от молодежных революций конца 60-х годов, США, Париж, Восточное побережье Франции, где основной движущей силой выступления революционной силы были студенты. Т.е. то, что мы традиционно относим к молодежи. И когда в последующем проводились исследования, почему они выступили с протестом, почему именно они стали выдвигать крайние требования по политической системе, социальной системе, там были выявлены ряд факторов, которые как раз характеризуют молодежь как переходный период социализации, не сложившиеся устойчивые социальные стереотипы, отсутствие риска материально потерять что-то. Ну, например, классический тезис, что студенту нечего терять кроме его зачетки. Или, соответственно, если мы берем французскую систему образования, то отчислять студента там практически невозможно, потому что традиционно система бесплатная и они принимает на учебу практически всех. И поэтому каких-то рычагов воздействия на них не было. Мне кажется, что вот эта картина, которая сложилась в конце 60, начале 70-х годов, и добавились еще такие классические видимо форматы молодежных движений – битники, хиппи и прочие позиции. Видимо, они сформировали общую установку, что наиболее радикальной в любом обществе силой выступает так называемая молодежь. При этом понятно, что зависает как минимум две позиции: что мы понимаем под молодежью, и что мы понимаем под радикальной. И соответственно, все это начинает переноситься на современность, с моей точки зрения, без какого-то критического анализа.
М.Ш. – Вот именно. Вот как раз второй вопрос относительно критического анализа: 68-ой год был 50 лет назад. Ну и так скажем, Алматы и Астана — это явно не Париж. Французские студенты и наши студенты тоже, мягко говоря, отличаются. У тех, кто вот это транслирует о радикальной молодежи, у них вообще не возникало диссонанса: французские студенты 68 год и казахстанские студенты 2018… Они как-то очень даже разные.
Р.Б. – Видимо, нет. На самом деле, здесь некоторое такое философское основание есть. Когда у нас формируется представление непрерывности истории, что есть некий поток непрерывной истории и закономерности этого потока являются одинаковыми. Когда в настоящее время мы говорим, мы исходим из того, что у нас есть прерывность истории, есть, говоря более простым языком, четко зафиксированный социально-исторический контекст, который в каждой ситуации может быть различный. Поэтому с моей точки зрения когда мы говорим, насколько молодежь Казахстана может быть подвергнута какой-то радикализации, если мы выводим за скобки сам термин радикализации, мы должны четко изучить, что у нас молодежь из себя представляет, что мы вкладываем в это понятие, какими факторами эта группа населения мотивируется и являются ли эти факторы какими-то специфическими.
М.Ш. – Все социологи и сама молодежь говорит, что она неактивная, ленивая и политически пассивная. Это правда или нет? Оппозиция об этом говорят уже лет пятнадцать
Р.Б. – Ну, если оппозиция об этом говорят, значит, это правда. Просто, я не занимаюсь сам социологическими исследованиями и мне сложно это подтверждать. В данном случае я не могу ставить под сомнение эмпирическое исследование в принципе. Мы должно из него исходить.
М.Ш. – И плюс мы это видим в политических реалиях. Потому что эти студенты куда им сказали, туда они и ходят. Сказали – флажками махать – машут, сказали мести – метут. Туда сказали, сюда сказали, ходят, и никаких возражений нет.
Р.Б. – Ну да, тот же самый пример недавно остро обсуждавшийся с дискуссией по Кок-Жайляу показывал, что взяли какую-то группу людей, сказали, что проголосовать надо заданным образом. Они пришли, проголосовали и разошлись. Или не разошлись, не знаю, что с ними было дальше. Но были, в общем-то, довольны. И в этом плане достаточно пассивны. Опять я бы вернулся к исследованиям. Потому что конструкт, который мы создаем, такой абстрактный стереотипный или генерализирующий на примере голосования по Кок-Жайляу, мне кажется не совсем корректный. А вот социологические исследования, которые проводились на научной основе с четко заданной выборкой, со сформулированными вопросами. И если у нас такие исследования показывают, что молодежь у нас действительно аполитична и неактивна, то это реальность, которую мы имеем.
М.Ш. – А почему тогда если все опросы показывают, политическая практика это показывает, почему этот тезис о радикализации молодежи все равно живет у нас в медийно-политическом пространстве?
Р.Б. – Здесь, я думаю, ключевой вопрос – что мы понимаем под радикализацией. Здесь мы опять приходим к ключевой проблеме поскольку у нас сама идея радикализации не зафиксирована, мы сталкиваемся с тем, что в этом поле говорим о том, о чем не знаем. Мы просто используем термин, не фиксируя его содержание. Не понимая, что мы этот красивый модный термин прилепляем к непонятному субъекту, который первым попадётся под руку. Это может быть молодежь. У нас разные субъекты там бывают. У нас религиозное население особенно радикализированным является непонятно почему. Какие-то еще одни дополнительные группы населения могут быть, безработные, например. Поскольку сам термин не продуман, прилепляем к какому-то субъекту, поскольку это модно, и начинаем об этом заявлять.
М.Ш. – Если идея радикализации 68 года, это демонстрации, протесты, акции различные, пассивное сопротивление, полный отход от социальных норм. Если мы берем радикализацию 1917 года и 1905, это включает в себя терроризм, политические убийства, диверсии, пропаганда экстремистских идей, которые говорят о насильственной политике. Хоть так хоть так – нет у нас такого.
Р.Б. – В общем-то нету.
М.Ш. – А термин живет…
Р.Б. – Он же используется очень удобно, он же используется в контексте риска. Мы говорим – у нас есть риск. А это еще смягчает ситуацию. Вот как мы говорим: есть вероятность Леонардо Месси перейти из Барселоны в Ювентус. Есть же вероятность? Есть. Поэтому давайте рассматривать и обсуждать этот вопрос. То же самое: есть вероятность у нас радикализируется молодежь? Есть. Каков размер этой вероятности – непонятно. Поэтому давайте обсуждать.
М.Ш. – И вот уже лет двадцать обсуждаем. Когда я у людей спрашиваю, вот вы занимаетесь молодежной политикой, поэтому в рамках этого… поэтому молодежь радикализуется. Этот как мужик из анекдота: мужик бегает по улице и хлопает руками. Ему говорят – ты что делаешь? Говорит: летающих слонов отгоняю. – Ну, тут же их нет! – Ну, вот, потому что отгоняю, поэтому их и нет. Вот у нас также все молодежные эти говорят так: почему молодежь не радикальна, а мы получаем деньги? А мы получаем деньги и поэтому молодежь и не радикальная. А вот перестаньте нам деньги платить – госсоцзаказ – и она сразу же радикализуется.
Р.Б. – Это очень жестко поставлен вопрос. Стоит вопрос о том, что надо более специфицировать. Что делается – соотносить. Фиксировать экономическую целесообразность. Понятное дело, что в принципе все согласны, что надо что-то предпринимать, если мы термин «радикализация» не осмысливаем специально для того, чтобы предотвратить определенные типы радикализации. Потом мы просим на это дело какие-то средства, ресурсы. И здесь возникает вопрос, как соотносятся эти средства и ресурсы. Если это становится очень дорого, то, наверное, этого делать не надо.
М.Ш. – А если очень дешево?
Р.Б. – А если очень дешево, то почему бы и нет.
М.Ш. – С другой стороны я помню данные одного опроса. Там спросили: вот как-то вас затрагивает молодежная политика – акции и прочее? И большинство молодежи ответило, что не то, что не затрагивает – они о ней и не слышали даже. Видимо, как-то она проходит мимо них.
Р.Б. – Тут же другой аспект может быть. Люди могут не то, что не видеть – могут не понимать, что она есть, эта молодежная политика.
М.Ш. – Что вот это было…
Р.Б. – Да, что вот это делается и это молодежная политика. Если к предыдущему вопросу вернуться более серьезно, когда я сказал, что если дешево, то можно делать… На самом деле это тоже не совсем корректно, потому что, если мы начинаем заниматься тем, что на самом деле не существует, мы не только ресурсы теряем. Мы внимание отвлекаем от серьезных вещей.
М.Ш. – От того, что на самом деле существует?
Р.Б. – Да. Это на самом деле реальная проблема. Есть аспекты, если можно вернуться к тому, что мы говорили перед началом передачи, когда ставится вопрос соотношения. Вот мы проводим исследования, да тема интересная. Но насколько она важная в соотношении с другими темами? Например, если мы берем тему сексуального воспитания или экономического воспитания молодежи, или, допустим, работы с кредитами. Если мы делаем акцент на каком-то аспекте, то другой аспект мы можем, к сожалению, не заметить.
М.Ш. – Получается, если мы обращаем внимание на радикализацию молодежи, мы не смотрим на, допустим, ту обычную молодежь, которая и не думает радикализироваться. На ее повседневную жизнь мы и не смотрим. Так, получается?
Р.Б. – Да, может выпадать.
М.Ш.– Потому что я сколько слышал – молодежь станет террористами, экстремистами, наркоманами. Но никто не говорит, как они будут платить за свои кредиты, которые они взяли для того, чтобы оплатить обучение в ВУЗе. Вот этот же вопрос намного шире и охватывает намного больше людей. Фактически, всю молодежь охватывает. Но его вообще никто не поднимает.
Р.Б. – Да, мы всегда концентрируемся на экстремумах. Если мы говорим о школьниках – на чем концентрируются всегда школы? Либо на предельно отстающих – на двоечниках, либо на отличниках. А масса основная, то, что мы называем нормой, она из центра внимания выпадает. А эта норма и составляет большинство, которое будет определять нашу жизнь. Ее же не двоечники будут определять? Если на класс два двоечника и два отличника, не двоечник и отличник будут определять, а вот эта как раз масса хорошистов, на которую никто не обращает внимания. У него же двоек нет? И не отличник? Зачем им заниматься, пусть растет как растет.
М.Ш. – Это типичная вещь. Занимаются вроде радикальной молодежью. Но молодежь на то же обсуждение Кок-Жайляу привели? Привели. Молодежь голосовала? Голосовала.
Р.Б. – Да, это и есть норма.
М.Ш. – А экологическими активистами кто-нибудь занимался? Да никто. У нас даже министерства нет соответствующего. Комитет в министерстве энергетики маленький, он занимается чисто контрольно-регулирующими [функциями]. А по экологической части – посвящение, взаимодействие с экологическими [организациями] – это работы вообще сейчас нет, в принципе. И получается, что проблемы создают не те, на которых тратятся деньги, а те, про кого все забыли. Там очень разные, причем среднего возраста и старшего возраста, благополучные люди, которые составляют норму и которые не учитываются госполитикой. Тогда получается у нас такая вещь – есть ли примеры радикальной молодежи в мировой практике?
Р.Б. – Опять-таки, вопрос состоит в том, что мы понимаем под радикальной молодежью.
М.Ш. – Самый хреновый вариант возьмем – чтобы именно молодежь шла в террористы, экстремисты, убийцы и так далее. Сама, причем
Р.Б. – Как – сама? Должен быть какой-то импульс.
М.Ш. – Составляла мощную группу в радикалах.
Р.Б. – Вопрос в том, какие рамки мы фиксируем. Если мы берем молодежь школьного возраста, старшие школьники – это одна часть. Если мы берем – в Казахстане молодежь до 28 лет – даже из комсомола в 28 лет уже гнали, там до 27 лет было можно. Это совершенно старшее, разумное поколение. Сама группа молодежи – не совсем целостная. Она достаточно сегментирована. Терроризм – это совершенно крайняя форма, ее как радикализацию не рассматриваем, потому что это предельная форма. Возьмем радикализацию, ведущую к насилию. Естественно, есть молодежные группы, которые радикализируются, четко фиксируются. Даже для Казахстана будет характерный пример – уличные банды. В какой-то степени насколько это характерно для Казахстана? Для Соединенных штатов это достаточно характерно. Уличные банды за какими-то территориями, использование форм насилия, которое у них принято. Эти моменты есть. Причем, они характеризуются молодежным движением, потому что туда попадают тинейджерами. И человек, достигая возраста выхода из школы, когда ему надо идти иди в университет или работать, он оттуда выпадает. Или попадает в реальную мафию и все «по-серьезному». Или отходит от этих вещей. Если мы говорим о радикализации, которая не ведет к насилию, а пост-радикальные явления, те же самые молодежные движения, те же самые хиппи – отказываются от социальных норм, никому ничего плохого не делают, живут сами по себе. В принципе эти направления тоже сохраняются и в тех или иных формах возникают.
М.Ш. – Если говорить о молодежных бандах, это не их молодость, это наша молодость. Уличные банды – это же СССР. Когда никакой радикализации не было, уличные банды были.
Р.Б. – Ну, видишь, радикализация, тем не менее. Если мы будем брать тексты информационных сообщений по ЮКО в связи с насилием над детьми – они же были групповыми.
М.Ш. – Это не как у нас, если вспомнить боевое прошлое, вот районы – вот тут Халифат, вот тут Квадрат, зайдешь туда – тебе сразу дрыном дадут по голове, кроссовки отберут.
Р.Б. – Для ряда районов Соединенных Штатов это характерно.
М.Ш. – А у нас изжилось.
Р.Б. – Интересно, почему.
М.Ш. – А вот это никто не изучает – почему. То, что попадает в республиканские СМИ – два колледжа пошли друг на друга с разборками – это же была обычная реальность советских детей. То, что считается сейчас ЧП республиканского масштаба, МВД включается – у нас это было не каждый день, но раз в месяц что-то такое было интересное. Насилие… Ну над мальчиками я не помню, над девочками было.
Р.Б. – Масштабы надо фиксировать.
М.Ш. – Были у нас психи, которые животных мучали, наркоманы, токсикоманы. Если сравнить советских детей, по нынешним меркам они очень радикальные. Нормы у нас, получается, совсем изменились.
Р.Б. – Я думаю, изменилась система социализации. Это требует исследования, это гипотетическое предположение. В мою молодость я социализировался с людьми реальными, а сейчас человек может социализироваться с виртуальными объектами совершенно нормально. В какой-нибудь социальной сети. И если у меня было – я не вышел на улицу в какой-то день, не поиграл в мяч, не погонял в футбол – это будет катастрофа как для меня, так и для моих друзей, они прибегут посмотреть, что со мной случилось. А со мной должно случиться что-то совсем страшное. То сейчас ребенок может неделями не выходить из дома, разве что в школу. Причем, и школьное сообщество разрушено. В моем детстве мы ходили по месту жительства в школу. Соответственно, уровень и плотность социализации были достаточно высокими. Я с одними и теми же людьми общался и в школе, и во дворе, и в прочих пространствах. Показательно, мне кажется. Если мы берем Алматы как город, где социализация разрушена, и у нас тут нет таких радикализировавшихся сообществ детских, которых я назвал бы бандами. А в сельских местностях это остается, потому что ребенок идет в школу, он во дворе в своем населенном пункте играет с теми же самыми детьми. И социальные связи гораздо выше и плотнее.
М.Ш. – Получается, что жестокий мегаполис, наоборот, сам по себе разрушает возможность для массовой радикализации.
Р.Б. – Для массовой, но не для индивидуальной.
М.Ш. – Индивидуальную вообще невозможно предотвратить.
Р.Б. – То, что называется при анализе терроризма – одинокий волк, здесь мы с этим сталкиваемся с этой ситуацией. Что один человек, – это пример массовый, и, к сожалению, на опыте, даже России – у которого что-то замкнуло, он взял доступное для него оружие, пошел и совершил массовое убийство. Это же тоже радикализация, но теперь индивидуальная. Которую предотвратить практически невозможно. Если массовые групповые вещи можно смотреть, можно смотреть социум, он на поверхности, можно рассматривать, какие там связи выстраиваются, какие иерархии, какие идеи они пытаются внедрить. Например, криминальные идеи, криминальную романтику вносили – это же можно отслеживать и при правильной работе правоохранительной системы и школы, это можно достаточно эффективно предотвратить. Чтобы это не перешло в реальное насилие. А когда один отдельный человек, живущий сам по себе в городе насмотрелся какого-то видео…
М.Ш. – Или просто шизофреник.
Р.Б. – Ну, шизофреника можно отследить. А если просто замкнуло что-то. То последствия не можем зафиксировать, а последствия могут быть катастрофическими.
М.Ш. – Напоминаю: вы смотрите «Диалоги» с Маратом Шибутовым. Тема сегодня – радикализация молодежи в современном обществе и факторы на нее влияющие. Вы можете смотреть на нашем канале Youtube и на нашем сайте Radiomm.kz. В гостях у нас профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.
Смотрите, получается у нас такая ситуация, что радикализации у нас может подвергаться сельская молодежь, которая имеет устойчивые групповые сообщества. Но – зато в сельской местности гораздо выше и контроль. Контроль родителей, общества и так далее за теми же детьми, плюс у них времени мало. Сельским хозяйством надо заниматься, личным подсобным. То есть, получается, у нас те, кто имеет для этого время – они не ходят группами, а те, кто ходят группами, они не имеют для этого возможности. Ни почитать, ни что-то там еще. Потому что они все время заняты в подсобном хозяйстве, работой и находятся под постоянным присмотром родителей и родственников, которые живут прям там же. У нас, получается, такая ситуация?
Р.Б. – Я думаю, это упрощенный вариант. Потому что надо смотреть каждый конкретный случай. Я бы не стал делать ставку на молодежь, потому что это размытое понятие. То же мы можем сказать о взрослых людях. Ту же самую модель мы можем сказать о взрослых людях, перенести. Просто у кого-то социализация завершилась, у кого-то она пошла по второму кругу в связи с теми или иными ситуациями. Я здесь не являюсь сторонником обобщений, чтобы сказать, что вот в сельской местности у нас есть основания для групповых оппозиций. Здесь все ситуативно, поэтому я все-таки делал ставку бы на то, с чего мы начали – реальные социологические исследования, которые идут не массово, а связаны с теми или иными регионами или даже конкретными населенными пунктами, где можно выявлять закономерности формирования модели поведения.
М.Ш. – Если смотреть отчеты Серика Бейсембаева – у него в целом по радикализации, а не по молодежи – ключевой там была среда тех людей, которые не вписались в город и уехали из села. И она была криминальной. Мелкие бандиты, которые зависли между городом и селом, не нашли себя ни там, ни там. Становятся именно они. Потому что они и в криминальном [мире] ничего не добились. Они становятся благодатной почвой для радикальных религиозных идей, и они становятся теми самыми радикалами, которых у нас все и боятся. Как можно это осмыслить?
Р.Б. – Это тоже классический подход, то с чего мы начали говорить. С установки, что радикализируются, как правило, маргинальные слои населения. Мы можем вести эту позицию, вернувшись к событиям конца 60-х и начала 70-х годов, что студенты во Франции и Соединенных Штатов Америки (во всяком случае, восточное побережье) – это маргинилизированные группы. Понятное дело, что учеба связана с переездом, с изменением социальных контактов, с изменением вообще образа жизни. Одно дело находиться под родительской опекой, другое дело находиться в свободном поле. Причем, это хорошо показано в фильме «Мечтатели», когда американец молодой приезжает, и брат с сестрой – французы, у которых родители уезжают. И они втроем оказываются без какой-либо опеки родительской и попадают – конец 60-х годов – в студенческое революционное движение. Это тоже самое – маргинализированная структура. Это самый классический подход, и он в значительной степени оправдан. Но надо смотреть, о какой глубине маргинализации идет речь. Маргинализация с чем связана – это возрастной фактор или все-таки экономический.
М.Ш. – Там было именно – если у студентов был возрастной, потому что старшее поколение очень плотно все забило, то там экономический.
Р.Б. – Скорее всего, экономический, да. Тогда это не молодежь, получается, в большей степени.
М.Ш. – На самом деле, когда я анализировал список осужденных за терроризм, там младше 20 лет был один всего на 150 человек.
Р.Б. – Тут тоже надо судебную практику смотреть.
М.Ш. – Я как раз судебную практику смотрел.
Р.Б. – В Казахстане, наверно, не дифференцированно по возрастам.
М.Ш. – Дифференцированно, как раз по возрастам.
Р.Б. – Я что имею в виду: не дифференцированно в том плане, что – если советскую практику возьмем – дело молодого человека всегда рассматривалось более гуманно всегда. С точки зрения того, что он может перевоспитаться, зачем его наказывать, на поруки коллектива.
М.Ш. – Там было всего два человека, которым было по 18, а вся основная масса была от 27 до 40 лет. Фактически, выпадающие из молодежи. И радикализировались те, кто 25-26 и выше, самый минимальный возраст. И это тоже с социологией совпадает, говорят, что социальный оптимизм резко падает к 27-28 годам. Когда человек выходит из-под родительской опеки, начинает сам зарабатывать, сталкивается с жестокой экономической реальностью и вот тут у него оптимизм падает.
Р.Б. – И становится маргиналом.
М.Ш. – И часть из них – очень маленькая часть – становится маргиналами.
Р.Б. – У маргинализации здесь интересный момент. Вот смотрите: пока человек является молодым, у него четко определен социальный статус, на него направлена молодежная политика, которую он может видеть, может не видеть. Он чувствует свою защищенность. А потом, когда он перестал быть молодым, но не стал взрослым, вот тут и наступает маргинализация. Гипотетический вариант, но опять же, мне кажется, достаточно интересный вариант для анализа – посмотреть о сдвиге возрастном. Говорить о том, что радикализируются не… Если, так сформулируем, в 60-е годы радикализировалась молодежь, потому что именно студенческая молодежь была маргинальной группой, именно в этот момент происходил переход к самостоятельной жизни – переезд, отход от родителей. У нас в казахстанском обществе этот переход происходит не в той группе, которую мы молодежью называем традиционно, а оно сдвигается по возрасту к более старшей позиции.
М.Ш. – Да, я вижу, что возраст, когда заканчивается социальный оптимизм, совпадает со средним брачным возрастом – 27 для мужчин, 26 для женщин. Причем у мужчин одна и та же цифра и для города, и для села. Причем, этот возраст потихонечку поднимается. За три года на полгода он поднялся. А лет за 10 он поднялся на год-полтора. Он растет и, получается, женитьба и получается отделение от семьи. У нас маргинализация начинается с брачной жизни.
Р.Б. – Здесь еще можно подкрепить статистикой самоубийств.
М.Ш. – Самоубийства у нас тоже начинаются с 34 лет. В 34 года начинаются еще и массовые разводы. То, чтобы у людей, когда они в 18 лет считали себя взрослыми, в 20 лет женились, в 25 у них уже были дети, это у нас сейчас сдвигается. Они женятся в 25-27, взрослыми они считаются себя в 30, в 35 они понимают, что они ничего уже в этой жизни не добьются.
Р.Б. – Политики для среднего поколения у нас нет.
М.Ш. – У нас есть молодежная политика и политика для пенсионеров. У нас молодежь и пенсионеры задействованы.
Р.Б. – Опять мы попадаем, что норма выпадает.
М.Ш. – В рамках нашего разговора это очень интересный вывод, к которому мы пришли. О том, что оказывается, у нас нет запроса на исследования группы нормы – людей среднего возраста, которые у нас не охвачены. Даже на треть, четверть всего охвачены профсоюзами, на 12-15% политическими партиями. В основном они все неприкаянные, их никто не смотрит, никто не видит, нигде их нет. И вот тут они начинаются радикализироваться. Кулекбаеву сколько было – 30 с чем-то лет?
Р.Б. – Я думаю, да, если возрастную статистику посмотреть…
М.Ш. – Я помню, что, если брать средний возраст – там были и под 60 лет, но основная масса от 30 до 40. Прослойка кризиса среднего возраста.
Р.Б. – Никому не интересные люди.
М.Ш. – С другой стороны, мы можем помоделировать условия, при которых молодежь все-таки начинает радикализироваться? Вот какие это условия? Исходя из того, что мы уже обсудили.
Р.Б. – Если мы выходили на формат маргинализации, мне кажется, надо смотреть, где молодежь может маргинализироваться, где она переходит на какие-то новые уровни. Понятно, что здесь есть перелом, связанный с переходом в подростковый возраст. Биологически меняется, психологически. Соответственно, биологический переход – когда от детского врача человек переходит к взрослому врачу. Это же объективный фактор? Эта точка слома может быть. Здесь добавляется фактор биологический – сексуальные влечения, которые человек имеет и не знает, как их реализовывать в имеющихся нормах. И может ли реализовывать. Звучала сегодня точка маргинализации – переход от постоянного места жительства к другому месту жительства, разрыв социальных связей. Из села в город. Независимо от того, переезжает он на учебу, работу. Интересны будут именно точки слома.
М.Ш. – То есть, подстегнуть маргинализацию молодежи может резкое изменение морали, которое не даст выхода сексуальной энергии молодежи – это первое. Потом, это может быть резкое изменение административно-территориального деления. Уменьшение количества сел и новая волна миграции. Одновременно с этим – резкое сокращение количества вузов.
Р.Б. – Каких вузов?
М.Ш. – Вузов и колледжей.
Р.Б.-Я не думаю, что резкое сокращение высших учебных заведений может повлиять. У нас разных формат вузов есть. Я не знаю, насколько сейчас вузы занимаются воспитательной работой.
М.Ш.– Занимаются.
Р.Б. – Это если есть общежития.
М.Ш. -Я смотрел состав преступников социальных, и там именно учащихся вузов и колледжей было очень мало. Когда совершивших преступления 40-70 тысяч, и всего несколько десятков студентов. Я думал, может поэтому у нас стараются побольше охватить высшим образованием.
Р.Б. – Может, просто дети умнее и не попадаются.
М.Ш. – А потом заканчивают и попадаются.
Р.Б. – И получается, что это социальное удлинение срока обучения – это передержка и они получаются.
М.Ш. – У него просто период маргинализации сдвигается к 30 годам. Получается, что, если вузов станет меньше, с одной стороны, меньше стараются попадать туда и в более раннем возрасте сталкиваются с прозой жизни. С другой стороны, вузов становится меньше и всем приходится переезжать за вузами, в Алматы, например.
Р.Б. – Вот в Россию стараются переехать и маргинализацию туда увозят. Вот так, маргинализация в Россию утекает.
М.Ш. – А экономические какие-то ситуации могут маргинализировать? Безработица, например.
Р.Б. – Мне кажется, это однозначно. Но, опять-таки, какую маргинализацию? Эту разницу я хотел бы проводить достаточно четко. С моей точки зрения значительная часть радикализации людей не имеет никакого плохого содержания, никакого негатива. Главное – ведет это к насилию или нет. Да, экономический фактор на первый взгляд гипотетически всегда будет основным. Если какие-то другие свои желания я могу ограничить, то желание покушать я ограничить не могу. Если я его не реализовываю, у меня естественно возникает идея перехода каких-то норм и правил и, чтобы обеспечить свое существование, совершение каких-то действий, которые могут рассматриваться как насильственные или радикальные.
М.Ш. – Опять же, гипотетическая ситуация – мы принимаем в ЕАЭС в наш единый рынок труда Узбекистан или Таджикистан, это вызывает огромный приток дешевой рабочей силы, которая вытесняет казахстанскую рабочую силу. Приведет ли это к большей безработице и возможной радикализации среди нашей молодежи?
Р.Б. – Нет, это слишком гипотетически. Потому что все в Кыргызстане и Узбекистане, которые хотят выехать куда-то на работу, они совершенно спокойно выезжают. С теми или иными сложностями они занимают свои ниши, эти ниши – фиксированные, и местный рынок труда они вообще не затрагивают. Например, в Алматы, я не думаю, что кто-то чувствует конкуренцию узбекских рабочих, потому что узбекские рабочие работают на тех работах, которую здесь люди выполнять не хотят. А они необходимы для нас. Например, на тех же самых стройках. Я не думаю, что это ведет к какой-то конкуренции. Например, российские исследования это однозначно доказывают. Что трудовой конкуренции просто-напросто нет, а вхождение в рынок труда, создание единого рынка труда с Узбекистаном приведет к тому, что сюда станут переезжать люди более квалифицированного труда. А они, как правило, не формируют конкуренцию, они просто повышают качество человеческого капитала в целом. Потому что для насилия нет никаких оснований.
М.Ш. – С другой стороны мы должны сказать о том, что далеко не во всех областях есть маргиналы, и они каким-то образом радикализируются, уходя в какие-то религиозные [течения/группировки]… А потом делают следующий шаг – переходят к насильственным действиям. Мы это видим в устойчивом виде только в Актюбинской области. И то после проведения больших работ – там специальная программа – мы не видим же диагноз 2016 года. В Алматы тоже нет особо.
Р.Б. – Понятное дело, что точечные случаи будут всегда.
М.Ш. – Булекбаев – он один, и то приехал из Кызылорды. А так у нас с 2013 года – пять лет – уже нет [террористических актов].
Р.Б. – Вопрос профилактики он всегда стоит. Опять-таки, с чего мы начали говорить, вопрос об эффективности профилактики: с какими группами мы работаем, работаем ли мы с теми группами, с которыми надо работать. Профилактика должна быть, если мы говорим о радикализации, ведущей к насилию. Она должна быть, но она должна быть фокусной и в этом плане эффективной, а не массовой.
М.Ш.– А есть ли связь, что общая политическая активность возросла, и растет насильственная политическая активность?
Р.Б. – Я такие закономерности не слышал и сильно сомневаюсь.
М.Ш. – Если у нас общая политическая активность низенькая, то, если брать аналоги с третьего мира, то у нас и терроритическая активность низенькая, будем честно говорить.
Р.Б. – Я не думаю, что тут связь.
М.Ш. – Я думаю, что если у нас есть хоть какое-то количество политически активных людей, которые радикализируются, то какой-то процент окажется насильственным. А если у нас в принципе радикалов нет, то и насильственные, просто из-за малости выборки, пропадают.
Р.Б. – Я не стал бы связывать низкую политическую активность и низкую радикализацию. Мне кажется, тут несколько иные закономерности и связи. Потому что, постольку поскольку у нас нет исследовательской базы, я могу предположить, что при высокой политической конкуренции энергия радикальная у значительной группы людей может быть направлена на нормальные политические процессы. Как правило, о чем исследователи говорят, низкий уровень политического насилия связан не с тем, насколько политическая активность существует в стране, а с тем, какой режим существует. Режим близкий к авторитарному или тоталитарному характеризуется низкой радикализацией, низкой экстремистской активностью, которая выходит на поверхность. Более открытые общества – страны с более открытой политической системой – там выплеск насилия происходит больше. Потому что нет тотального контроля, нет тотального отслеживания. Естественно, существуют исключения. Например, если мы берем систему, которую сейчас в Китае обсуждают – о социальном рейтинге. Понятное, что при таком тотальном компьютерном контроле выявлять любого человека, который чуть-чуть отклонился куда-то от нормы очень легко. Соответственно, откуда там возникнут какие-то преступные действия запланированного характера? Понятное дело, что такая система не исключает импульсные действия. Надоел человеку тотальный контроль, у него опять сдвиг произошел, он пошел и уложил 5-6 миллионов китайцев. Какая-то акция на той же самой железной дороге. Как ее ни охраняй, человек, психически сдвинувшийся…
М.Ш. – Они, в основном, на детские сады нападают.
Р.Б. – Ну или какие-то действия совершенно вполне возможны. С плотностью китайского населения потери будут.
М.Ш. – Кинул кирпич с пятого этажа – уже как минимум двоих-троих зашиб.
Р.Б. – Соответственно, это тоже не гарантия, но она приводит к тому, что акции становятся точечные и они фиксируются как преступные акции. Они не рассматриваются как радикализации.
М.Ш. – Подводя итоги, мы можем честно сказать, что у нас…
Р.Б. -Непонятно, о чем говорим.
М.Ш. – У нас критически мало исследований основной части населения возраста от 30 лет и до 60. Это население выпадает. Мы можем честно сказать, что у нас порог маргинализации и радикализации сдвигается в этот возраст. И соответственно, у нас из-за этого проблемы радикализации молодежи все время снижается, зато растет проблема радикализации людей среднего возраста. Потенциально. Она небольшая, потому что у нас ни акций, ни чего-то такого нету. Но проблема методически из одного возраста из-за демографических, социальных, экономических сдвигов переходит в более старший возраст. И если мы молодежь не повысим до 35-40 лет, мы можем говорить, что у нас возможность радикализации молодежи стремится к нулю, а она переносится. Но это большой важный фактор методический, научный, потому что, если перенос состоялся, фиксируется, этот перенос он будет сильно сказываться в дальнейшем на всем. И на научных исследованиях, и на всем [остальном].
Р.Б. – Направление для исследования было бы интересное – проверить, так ли это на самом деле.
М.Ш. – Деньги давайте на исследования. Вот на это – молодежь уже неинтересная, неопасная, как и пенсионеры. На такой позитивной ноте мы можем завершать передачу. У нас в ходе дискуссии родилась очень интересная гипотеза и очень интересное направление исследования. Спасибо, что были с нами 55 минут. С нами был уважаемый эксперт, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.



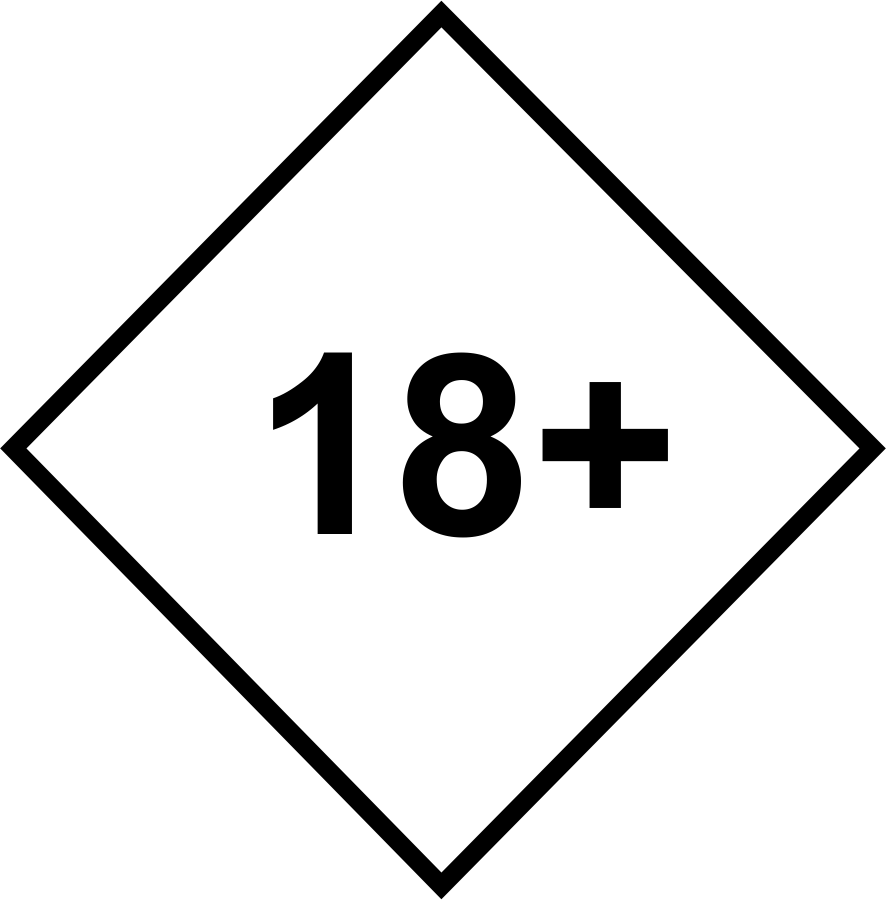 E-MAIL:
E-MAIL: