Марат Шибутов - политолог, общественный деятель
Диалоги с Маратом Шибутовым.
Радикализация и экстремизм в Казахстане: религия или политика?
Марат Шибутов (М.Ш.) – Здравствуйте уважаемые зрители! С Вами Марат Шибутов. Мы в студии Радиомедиаметрикс Казахстан. Вы можете нас смотреть на нашем сайте radiomm.kz и на нашем канале в Youtube.
Сегодня у нас тема достаточно сложная. Это радикализм и экстремизм в Казахстане. Религия или политика. И в гостях у нас известнейший человек среди востоковедов, Доктор исторических наук, профессор, Член Русского Географического общества, не только исследователь, но еще и журналист, фотограф и просто обаятельный хороший человек – знаменитый афгановед Александр Алексеевич Князев (А.К.). Здравствуйте!
А.К. – Здравствуйте!
М.Ш. – У нас вот такая интересная проблема. Мы вот все время обсуждаем терроризм-терроризм, а что мы действительно понимаем реально под терроризмом? Что это? Только теракты? Или теракты, плюс какие-то политические требования? Это какая-то организованная борьба или под определение можно записать школьные расстрелы? Что это с Вашей точки зрения?
А.К. – Ну, во-первых, нужно, наверно, разделять понятие терроризма с понятием некоего просто криминального действия. Да, это не совсем, лишь частично совпадающие вещи. Но в чем-то они между собой расходятся. Классически в литературе, в научной литературе есть определения терроризма, они длинные и долгие, но если коротко, и я являюсь приверженцем такого представления об этом понятии – терроризмом является тот факт, который вызывает… ну во-первых – это насильственные действия, имеющие в некотором роде антиобщественный характер, антигосударственный может быть характер, направленный против тех или иных действий политиков, государственных органов, социальных страт, слоев общества, социальных групп, но обязательно имеющие такой общественный резонанс, создающие такое давление на общественное мнение, которое заставляет принимать некие решения и вызывать некие действия. Они могут быть различные. Они могут быть, скажем, уступкой требованиям террориста. Они могут быть направлены против или вопреки его интересам, но обязательно это вызывает некое действие. То, что то, что не вызывает общественного резонанса – не вызывает действия – это не является терроризмом.
Теракт, который скрыт и не стал известен – это не теракт. Это насильственное действие, это преступление, можно много подобрать понятий. Теракт – это именно то, что имеет общественный резонанс.
М.Ш. – Учитывая то, что у нас прошло 1 января и мы к нему все зарегистрировали все свои телефоны, а регистрация телефонов была последствием антитеррористических поправок 2016 года, можно сказать, что у нас терроризм не только есть, но и он производит очень большой резонанс, который приводит к тому, что… Мы вот все взяли и зарегистрировали свои телефоны. Получается, у нас терроризм есть в Казахстане. Как, Вы с этим согласны?
А.К. – Ну не совсем так. Я думаю, что все эти действия правоохранительных органов, спецслужб, к которым относится регистрация телефонов в частности – это есть упреждающие меры. Это меры, упреждающие терроризм, т.е. это не означает, что он уже случился, но скажем та же самая регистрация телефонов, контроль определенный, он позволяет спецслужбам и правоохранительным органам (ну они так думают – смех), позволяет предупредить подготовку, предупредить совершение террористического акта. Это же не действие. Либо расследовать уже случившийся теракт по связям в телефоне, предположим и так далее. Расследовать кто был связан с террористом, кто его мотивировал, финансировал, то есть это не предупреждение как таковое, конечно.
М.Ш. – Если мы вспомним то, по-моему, трое из двадцати шести – двадцати семи человек, которые совершали теракт в 2016 году в Актобе, ранее были уже судимы за терроризм и, по идее, должны были быть под строгим надзором. Их должны были отслеживать. А они, получается, толпой собирались, и никто об этом.
А.К. – И готовились дальше.
М.Ш. – Да, и готовились дальше… и насильственные действия. И все. То есть получается так, пока эти упреждающие действия, они пока вроде как-бы упреждают. Потому у нас после 2016 года в основном не случаются сами теракты, их берут на стадии подготовки. Но, вот такой вопрос интересный. Вы как специалист по Афганистану, Вы же полностью видели, изучали лично всю вот эту стадию, когда достаточно мирная все-таки страна, допустим при Эмире если брать, постепенно-постепенно, скатывалась-скатывалась и перешла в состояние перманентной гражданской войны. Вот как это происходит? Расскажите.
А. К. – Сама эволюция этого долговременного, уже десятилетиями, конфликта... Во-первых, это конфликт, общественный конфликт, гражданский конфликт. Сама эволюция этого конфликта и его дохождение до той стадии, когда появляется проявление терроризма – он достаточно продолжительный, во-первых. Это некий социальный, по сути, там была сильная религиозная составляющая. Но религия – это же идеология все-таки. Это не единственный мотив для действий, для совершения каких-то действий. То есть отсутствие адекватной реакции самой государственной системы в семидесятые годы, после свержения короля и переворота Мухаммеда Дауда – это отсутствие адекватных действий со стороны государства, которые отвечали бы на запрос наиболее консервативной, наиболее религиозной части общества, толкает их сначала на антигосударственные действия и на путь гражданской войны. Затем происходят другие события. Там свергают Мухаммеда Дауда, потом приходят к власти народно-демократическая партия, потом Амин… Амин начинает опять же репрессивными методами бороться с этой продолжающейся агрессивной, достаточно уже к этому времени, деятельность вот этих религиозных структур, все более и более радикализующихся. Но это всё не терроризм – это гражданская война. Потом начинаются восьмидесятые годы... Мы туда вмешиваемся. Советские войска входят. Это тоже не терроризм.
Когда сегодня Трамп говорит, что советские войска, Советский Союз правильно поступил, ввел войска в Афганистан, потому что он там боролся с международным терроризмом. Это полная чушь на самом деле. Понятие терроризм отсутствует по всех без исключения открытых документах по Афганистану, советских. Поэтому понятия нет. Мы его не употребляли потому, что у нас в тот период было более четкое представление о том, что такое терроризм. Вот самолет захватили, заложников. Потребовали (какие-то требования) – вот это и есть терроризм. Но в Афганистане мы участвовали в гражданской войне на стороне того правительства, которое было на тот момент в Кабуле, близкого нам идеологически, исходя из своих интересов и так далее. Там нет терроризма. Терроризм начинается, пожалуй, в 90-е годы и он тоже не связан, скажем, с известным движением Талибан. Движение Талибан – это тоже часть гражданской войны. Они более радикальные, они более религиозные – да. Но это соответствует, это некий осколок части общества, которое склонно к такой идеологии. И более того, терроризм появляется в Афганистане, на мой взгляд, достаточно поздно. Это первые самоподрывы. Это никогда не было свойственно. Это не афганская традиция. Она привнесенная из арабских стран, с участием иностранцев, прежде всего из арабских стран. Участием их в событиях в Афганистане уже со своими задачами, со своими целями. Вот здесь появляется явление терроризма. Когда в людном месте, где мирные люди, праздник какой-то, предположим, или просто место людное, человек взрывает себя дабы продемонстрировать некую силу того движение, которое он представляет. Я хочу заметить, что Талибан, я не хочу быть его адвокатом или тем более апологетом, но тем не менее сам по себе Талибан почти не использует такие методы. Это в основном используют иностранные структуры, которые действуют на территории Афганистана сегодня. И появляется проявление терроризма. Но вот в целом это пока не свойственно. Со мной многие поспорят. Для многих моих афганских друзей слово Талибан – это само по себе террор. Но это на самом деле нет так, если строго подходить. То есть радикальная идеология – это еще не обязательно терроризм.
М.Ш. – Это была очень интересная мысль и интересный взгляд. Потому что получается, с другой стороны, неся в принципе то, что делает Талибан – это дело сути дела повстанческая, можно сказать, партизанская война. То есть это война. Это какие-то военные действия. Они там на свадьбах никого не убивают. У Талибана бывают политические убийства, как Ахмад шаха Масуда, допустим и так далее.
А.К. – Но и то тут сложно. Убийство Ахмад шаха Масуда, оно было нужно [кому-то извне]... Заказчик мог быть вообще извне. Это могли быть не талибы. Я не прокурор, я не берусь судить, но тем не менее заинтересованы были не талибы и убирали не руками талибов, убирали руками иностранцев.
М.Ш. – То есть получается так: это уже сочетание не только гражданского конфликта, но еще и этой иностранной идеологии извне, которая пришла из арабских стран. Которая в принципе, будем честно говорить, допустим, если взять семитскую традицию – зелотов, еврейских террористов, которые были две с лишним тысячи лет назад, получается. Там точно уже была большая террористическая традиция, общесемитская. Сначала еврейская, а потом уже арабская и так далее. В принципе нужно чтобы пришла традиция, если этого нет внутри.
А.К. – Ее можно привнести. В разные страны ее привнесли, и она... Стали пуштуны взрываться, афганские этносы, хотя это не было им свойственно. Хотя это уже вопрос воспитания конкретных людей в соответствии с той традицией, привнесенной.
М.Ш. – Да! А такой тогда вопрос: почему при короле… сколько существовало в принципе афганское королевство?
А.К. – Значительно больше. 1737 год – образование государства Ахмад шаха Дуррани. То, что мы называем Афганистаном сегодня. Фактически оно беспрерывно до 1973 года существовало.
М.Ш. – То есть двести с лишним лет. И в принципе в двадцатом веке оно достаточно нормально существовало.
А.К. – Нормально то нет. Это немного другая вещь, не связанная с терроризмом. История сложная…
М.Ш. – По сравнению, допустим, с тем, что сейчас, то все равно получше.
А.К. – Скажем, королевский период, период Захир Шаха и предыдущий – Надир шаха, они достаточно стабильны в истории Афганистана. Поскольку королевский режим, при нем относительно были сбалансированы интересы и межэтнические (а они там сложные) и религиозные. Умеренное реформирование, умеренная модернизация страны, может даже недостаточная, но тем не менее она не вызывала конфликтности такой открытой.
М.Ш. – Я к чему веду. Мы все помним фотографии Кабула при Захир Шахе: розы, девушки в европейских платьях. Надо вспомнить, что университет кабульский тоже в тридцатые годы, кстати, был открыт. Как и наш КазГУ, может на два года позже или раньше. В то же самое время. То есть модернизация была. И, получается, мы видим, наоборот скачок – вот эти фотографии, где были розы, фонтаны, а потом там такая разруха не очень хорошая. Но, тем не менее мы видим, что до определенного момента королевский режим позволял вот это все сбалансировать. За счет чего?
А.К. – Во-первых после свержения короля в период Мухаммеда Дауда модернизация приобрела менее умеренный характер. Она стала слишком ускоренной, и отсутствовал учет... страна не маленькая и, скажем, мировоззрение сельской местности и мировоззрение крупных городов, жителей крупных городов, мировоззрение южных регионов населения и мировоззрение населения северных регионов, мировоззрения населения различных этнических анклавов, они все различны. И сбалансировать их трудно. То есть, грубо говоря, то, что можно в Мазари Шерифе, там для женщины ходить с открытым лицом, то не вполне позволительно и «не комильфо» где-нибудь в Гильменде, Немрузе или даже в Кандагаре. Этот разрыв город-деревня, юг-север. Межрегиональный разрыв. У различных этносов. У одних этносов какие-то религиозные консервативные проявления сильнее, у других меньше. Вот это все должно было быть более сбалансированным. А оно не оказалось. Талибы – это ведь не только протест против светскости, это же еще и этническая составляющая есть и ряд других... То есть здесь немножко сложнее. Но в итоге это привело к [войне]. Любой конфликт, если не снимаются его причины, он идет на обострение, развивается.
В Афганистане никто не решал проблемы, породившие конфликт. Этого не делал ни Мохаммад Даут, ни потом руководители НДПА, ни наши кураторы не пытались этого сделать. Ни талибы этого не пытались сделать. Они впали в другую крайность.
После талибов та часть населения, которая была склонна светскому образу жизни, они посмотрели на западных новых кураторов. Они рванули за ними. Есть, скажем, в Афганистане этнос хазарейцев, хазарат. Они один из крупных этносов, они шииты. И до двухтысячных годов, весь предшествующий период и период Талибана в 90-е годы, того Талибана, который был у власти. Это была очень консервативная этно-социальная группа, приверженная религиозным ценностям в первую очередь. Их всегда считали в политическом разрезе проиранскими, они в принципе такими были. Крупная шиитская страна, к которой можно апеллировать, обращать взоры. В 2000-е годы западные структуры, американские прежде всего, серьезно взялись за их воспитание. Они огромной массе шиитской хазаретской молодежи помогли, поспособствовали их обучению. Эта молодежь, не вся, конечно, но значительная часть, она выросла светской. Она уже не привержена религиозным каким-то догматам. Она больше привержена западным ценностям. И сейчас зреет конфликт между основной массой и старшим поколением преимущественно, этого этноса и вот этой частью молодежи, которая исповедует совершенно другие ценности. Это конфликт послезавтрашнего дня для Афганистана. Это один пример, есть и другие, не только у хазарейцев. Для этого существует государство. Оно должно регулировать эти вещи. Оно, во-первых, должно изучать эти вещи. Во-вторых, продуманно, на какой-то научной основе находить инструменты и методы для того, чтобы сбалансировать различные интересы, различные мотивации и сохранить стабильность в обществе. Создавать какие-то компромиссные решения. В Афганистане этого не случилось, и мы имеем то, что имеем.
М.Ш. – То есть получается все-таки... В принципе мы видим, что терроризм все-таки в Афганистане – это политическая вещь. Не религиозная. Или такая сложная [картина]?
А.К. – Я бы вообще поостерегся говорить о том, что терроризм и религия они совсем слиты воедино. Если говорить о конкретных исполнителях, предположим, тех же подрывниках. возможно у большой части этих людей действительно сознание настолько замутнено, задогматировано, что они идеологически и религиозно мотивированно идут на то, чтобы попасть в рай к гуриям и совершить свой некий индивидуальный джихад. Это возможно. Но в целом это не религиозное явление. Терроризм, Вы вспомнили древнеиудейскую историю, а можно вспомнить ещё даже в такой мирной религии как Буддизм. Там ведь тоже практиковались такие вещи. Это у всех. В Европе, где угодно. Это инструмент более универсальный. Сегодня просто, если мы уже привязываем к религии как-то, то сегодня ислам – сама по себе наиболее пассионарная и развивающаяся, наиболее динамичная из всех мировых религий. Поэтому и наиболее политизированная на данный момент, связанная с политикой. Поэтому мы видим проявления терроризма со стороны последователей ислама. Это просто в конкретный исторический период. А на самом деле это явление довольно универсальное и всеобщее.
М.Ш. – Да, но мы помним, как, то гугеноты, то католики, допустим, в той же Франции практиковали политические убийства. В принципе те же самые теракты индивидуальные. То есть фактически мы можем говорить, что все-таки основное – это вот этот политический конфликт, который постепенно, из-за того, что нет компромисса, нет балансира, он приводит к насилию. Но были в Афганистане попытки остановиться со стороны общества? Сказать, давайте перестанем этим заниматься?
А.К. – А как общество может здесь воздействовать? Если существует разрыв, общество апеллирует к власти. А если власть неспособна или не хочет, не считает нужным... По-разному реагирует на это, иначе, запретительными мерами какими-то, карательными мерами какими-то, усложнением служб безопасности. В кабульский аэропорт зайти значительно сложнее, чем в алматинский, скажем.
Хотя это абсолютно все это бездарно. Если сильно захотеть, то можно и бомбу пронести и все, что угодно. Учитывая еще и коррупционный момент. Понятно, что эти меры не спасают. Они должны быть, но они должны бы в сочетании идти с другими вещами. Нужно устранять не последствия, а причины все-таки. Если бы по-хорошему.
Если государство не способно это делать то, что может сделать просто общество? Тем более общество, довольно-таки фрагментированное в Афганистане. Оно возмущено, оно страдает. Я в прошлом году осенью попал в Кабул во врем одного из шиитских праздников серьезных. А хазарейцы-шииты – это большая часть населения Кабула. И я первый раз видел этот шумный и всегда людный в любое время суток город почти полностью вымершим. Накануне представители террористических группировок через средства коммуникаций заявили о том, что будет около ста взрывов в Кабуле. Было понятно, что это направлено против шиитов и было понятно, что это может произойти в местах крупного скопления людей, где собираются шииты. Возле своих мечетей, еще где-то. Мои афганские друзья сказали: «Ты понимаешь, были случаи, когда этот подрывник, не может пройти к местам скопления, там, где он должен был взорваться, он уходит, а тот, кто кнопочку нажимает для его пояса дистанционную, тот смотрит и не возвращать же его обратно. Он в любом месте взрывает. Поэтому надо поосторожнее по городу ходить». Город обезлюдел, люди просто сидели по домам. Это вот реакция общества.
М.Ш. – Вот такой вот вопрос: те же, допустим, меры безопасности – полиция, служба внутренней безопасности – при королевском режиме они же не были такими зверскими, как сейчас? Допустим, армия не доходила же до 300 000 человек и так далее.
А.К. – Нет, никогда такого не было. Но не было и... Формирование масштабных сил безопасности всех вместе (армия, полиция, спецслужбы, частных компаний) полно по Кабулу. Это такая простейшая, примитивнейшая даже, я бы сказал, реакция на то, что это явление, о котором мы говорим, оно появилось, оно есть, оно существует. Но это примитивная реакция, потому что она же не направлена на то, чтобы не было попыток терактов. Она направлена на то, чтобы попытаться предотвратить такими простейшими средствами – оцепление, предположим, какое-то, простая проверка вещей – но это уже то, что подготовлено. Не взорвался он здесь, не прошел – взорвался в другом месте. Это все равно теракт. А бороться нужно с причинами. А борьбы с причинами нет.
М.Ш. – Уважаемые зрители, я напоминаю, что у нас идет передача, посвящённая терроризму. Что в нем первично больше – это религия или политика. И в гостях у нас известный востоковед, афгановед, доктор исторических наук, Александр Князев. Вы можете нас смотреть на нашем сайте radiomm.kz и на нашем канале Youtube.
Мы продолжаем. Получается, самое смешное то, что эти громадные вложения, прежде всего американские, на армию, на службы безопасности – это всё как бы деньги на ветер, потому это элементарно люди в джирге допустим, или еще где-то, не могут сесть нормально переговорить, понять, что им требуется. Превратить Афганистан в федерацию или еще что... нет политического видения, что делать дальше. И получается огромные деньги и усилия и вообще все «сжигается» ради того, чтобы как-то купировать эти последствия.
А.К. – В принципе так и происходит. Простое купирование. Реального решения проблем нет, потому что нет ни в социально-экономической сфере, ни в сфере развития регионов, решения нет. Мы же знаем, что социально-экономический компонент он не главный в формировании будущего терроризма. Есть случаи, когда люди из благополучных семей участвуют в этом.
М.Ш. – Да, вполне.
А.К. – Но это все равно один из факторов, да? Это один из факторов даже для влияния на формирование мировоззрения человека, когда он видит вокруг себя более справедливое общество и когда он видит вокруг себя менее справедливое общество. То есть попыток создать какое-то более или менее справедливое общество – этих попыток нет. Сейчас можно спросить любого афганца, у него будет высокая степень недоверия к прошедшим выборам. В октябре прошли парламентские выборы, правительство и подконтрольный, естественно, ему избирком до сих пор (на дворе январь) не обнародуют результаты выборов. Они еще считают. Считают не потому, что не умеют, не знают арифметики. У них совершенно современные системы расчетов, все это давно уже в рамках цифровизации сделано. Они боятся объявить, потому что они боятся взрыва, недовольства этими результатами. Они (афганцы) не верят этой власти. Они не верят ей в экономической сфере, они видят, что большинство чиновников просто не выполняют свои задачи так как прописано в конституции и законодательстве. Они просто сидят и используют эти места как возможность личного заработка, пока сидят. Отсутствует стабильность и любой чиновник, это не только к Афганистану относится, ко многим другим странам и в нашем регионе, когда чиновник в любую секунду подсознательно готов к тому, что его сегодня могут снять с должности. У него возникает искушение украсть побыстрее сегодня, пока не сняли. Это стимулирует коррупцию, на самом деле. Не постепенно, скажем, вот надо срочно и потом хоть трава не расти. Потом уехать куда-нибудь в Европу. Как может быть доверие к такой власти?
М.Ш. – Реально там достаточно ... мне как-то Ерлан Карин рассказывал, что в своих поездках в Афганистан он заходит к какому-то чиновнику домой и у него таких хоромы, участок. Достаточно богатые люди для такой бедной страны.
А.К. – Богатых людей достаточно много, но я бы не сказал, что они чем-то отличаются от стран нашего региона. Общий уровень, скажем. Не особо. Там чем отличается, что у любого богатого человека, там, где он живет всегда очень сильная, заметная внешне охрана, поскольку ему есть за что бояться. И страна в целом не безопасная в этом плане. Я в прошлую поездку проезжал мимо ворот особняка, где живет Гульбедди́н Хекматия́р, один из патриархов движения джихадистского в Афганистане. Там стоят такие серьезные ребята, я бы просто так к ним не стал подходить, без особых причин. Этим, конечно, отличается от наших олигархов постсоветских, предположим. Или в Европе мы этого не увидим. Так как-то все поскромнее, посдержаннее, поцивилизованнее. Здесь стоят вооруженные люди. Их много, огромное количество. Высокие заборы, системы безопасности, проволока колючая и так далее. А с точки зрения внешней роскоши, пожалуй, нет.
М.Ш. – С другой стороны, учитывая общее экономическое развитие, Афганистан – это все-таки пропасть между обычным гражданином и допустим каким-то губернатором провинции, намного больше чем в Казахстане между акимом и обычным гражданином. Или не так?
А.К. – Мне трудно сравнивать состояние счетов казахстанских акимов и афганских губернаторов в провинциях. Но если говорить об уровне жизни рядовых декхан где-нибудь в провинции афганской и рядовых крестьян в казахстанской провинции, мы не можем этого сделать в численных показателях. Но если говорить о внешней стороне, то этот разрыв чувствуется сильнее. Но здесь нужно учитывать одну особенность: у Афганистана не было такого разрыва в общественном сознании, который был в Казахстане и который мы имели в советский период. То есть отношение к частной собственности, уважение к тому, что да, это богатый шейх, у него есть это богатство некое, особенно когда оно наследственное, поколенческое уже. То есть это отношение более спокойное, более сдержанное, более примиренческое. Вот так Бог сверху когда-то рассудил, что он богатый, а я бедный. У нас советский период сакральность частной собственности изрядно подкорректировал. Поэтому у нас социальная зависть не во внешних проявлениях, а внутри людей. Она сильнее проявляется. Вчера мы были все советскими людьми, вроде бы были все равными, а сегодня между нами такой разрыв. Даже если он меньше, что у афганцев, все равно он бьет по сознанию нашего человека сильнее.
М.Ш. – Да, и, кстати, у молодежи вот... наша молодежь ближе к афганскому мировоззрению. Потому что они уже не видели, они уже при этом прижились. Они уже смирились и так далее. И вот тогда получается, что именно все-таки основная причина, хотя бы пять основных причин, которые помогают поддерживать в Афганистане терроризм? Первое – это, допустим, политический конфликт.
А.К. – Политический конфликт — это заказ, исходящий из политических интересов.
М.Ш. – Это стремление вести именно политику насильственными методами, да? Потом – это недоверие общее общества к власти.
А.К. – Косвенно – это социально экономическая ситуация.
М.Ш. – Потому что деньги дают.
А.К. – Опять же косвенно – это уровень образования. Вообще идеологическая сфера, духовная сфера в целом.
М.Ш. – Да, когда все-таки люди не понимают таких вещей. И получается – религия где-то вообще [на последних позициях]...
А.К. – Это оболочка, потому что… религия – это оболочка. Я повторюсь еще раз. За исключением, может быть, части конкретных исполнителей. Она (религия) второстепенна, третьестепенна. Это только отдельная часть исполнителей. Она может быть подвержена примитивным каким-то догматам: «Я сделаю джихад, попаду к гуриям», «Смерть – это же не страшно, в принципе», «Бог меня заберет к себе, раз я такой решительный».
М.Ш. – Это совсем не значаще. Не было бы религии, была бы, допустим, национально-освободительная борьба. Да?
А.К. – Да.
М.Ш. – Было бы, допустим какое-то этническое господство, борьба против коррупционной власти…
А.К. – Коррупционная власть и против капитализма, империализма. Все что угодно. Можно вспомнить красные бригады в Европе. Да, мотивация везде бывает самая разнообразная
М.Ш. – Главное это именно политическая неудовлетворенность. И неумение находить...
А.К. – Есть простые критерии. Кроме терроризма есть еще понятие экстремизм. Основной критерий экстремизма – это призыв к насильственному свержению действующего общественного строя, государственного строя. Призыв к насильственным действиям. До тех пор, пока этого призыва не появилось, любую религиозную форму существующую – салафиты, это будут или еще кто-то – я думаю, она не заслуживает того, чтобы к ней предпринимать карательные действия. Спецслужбы, для того они и существуют, и правоохранительные структуры – если появляется… в Казахстане же есть это явление? Последователи салафизма. Да, мы знаем из чужого опыта. Мы знаем, что из салафизма прямо следует экстремизм и за ним следующая стадия – это уже переход к террористическим действиям.
М.Ш. – А может потом дальше к гражданской войне.
А.К. – Да. Но они же еще не призывали. И ломать сознание людей, я думаю было бы неправильно. То, что их нужно контролировать, в том числе регистрируя телефоны – это факт, это не подлежит сомнению. Но просто запрещать, я думаю, это не есть та мера, которая позволит ликвидировать проблему.
Вот эти запреты, списки запрещенных организация, да, это, наверно, правильная методика. Но они ведь сами по себе проблемы не решают. А что тот же Таблиги Джамаат до того момента, когда его запретили в Казахстане, они что, ходили и везде о себе заявляли громко? Или нет? Они и сегодня действуют так же. Да, они запрещенные, они стали осторожнее. Они стали конспирироваться. Но они же не исчезли. Само это внесение в списки, оно само по себе ведь роли не играет.
М.Ш. – Оно только радикализует.
А.К. – Оно, да. Оно их отвергает от общества и вызывает большую агрессивность с их стороны.
М.Ш. – Получается такой момент. Есть какой-то предел, когда мы давим, допустим, на какую-то организацию в виде государства или общество даже давит, и тут они начинают отвечать насилием?
А.К. – Прямых примеров я быстро не вспомню. Но это же естественная реакция. Я не знаю, у нас ведь еще много путаницы. Это уровень образованности тех людей, которые относятся и к спецслужбам, и к структурам правоохранительным. Я помню, в начале 2000-х годов в соседней Киргизии Хизб ут-Тахрир пытались отнести к террористическим структурам. Я говорил: «Ребята! В программе Хизб ут-Тахрир (то время еще не было хорошего русского перевода, я сам пытался переводить, помню) нет призывов к насильственному свержению строя. Там есть призывы к построению исламского государства. Халифата. Шариатского государства. Но там не говорится о том, что это нужно делать силой. Поэтому как вы можете их относить к террористам, если они не совершили ни одного [теракта]?» В свое время Хизб ут-Тахрир отделилась на Ближнем востоке от Братьев-мусульман, как раз по такому критерию, как отказ от совершения насильственных действий. Братья-мусульмане совершали террористические акты и часть откололась, та, которая считала необходимым отказаться от терроризма и путем убеждения работать. Вот имя достижения тех же самых, в принципе, целей. А вы их относите сразу к террористам. Даже с точки зрения тактики действий правоохранительных структур – это неправильно. Давайте мы лучше их расколем, а не будем всех в одну кучу, помогать им консолидироваться.
М.Ш. – Таким образом, получается, список этих организаций, список людей все больше и больше. Через некоторое время они могут стать достаточно опасной структурой все-таки. Представлять проблему. Но тут такая вещь интересная – получается, всё-таки если про Афганистан говорить, то королевский режим был легитимен исторически.
А.К. – В принципе да.
М.Ш. – Он был легитимен исторически, король, в принципе, не имел четкой идеологической окраски – королевский режим. Но после прихода Народно-Демократической партии, которая имела четкий свои идеологический окрас, левый. Получается, соответственно появилась радикализация по правому центру.
А.К. – Это произошло еще до НДПА. До прихода к власти, условно коммунистов. После переворота Мухаммеда Дауда.
М.Ш. – Он был правый, но либеральный, да?
А.К. – Он пытался быть посредине, но у него это не получалось просто. Это были шараханья определенные. Сегодня он репрессирует коммунистов, завтра радикалов религиозных и так далее. Это вызывало протест с обеих сторон. Скинули его в итоге коммунисты. Но это элемент просто исторической случайности. А первое восстание против режима Мухаммеда Дауда произошло со стороны именно, когда, собственно, образовалось это моджахедское движение, потом уже, начавшее бороться против коммунистического режима и советских войск. Такие имена как Хекматияр, Ахмад Шах Масуд, Рабани, Абдул Расул Сайяф и другие. Это все появилось в 1975 году, за три года до апрельской революции, которую совершили левые силы, и было направлено на свержение Мухаммеда Дауда.
Когда говорят, что советские войска породили Талибан, тем, что мы вызвали реакцию со стороны религиозных кругов, на самом деле это неверно. Потому что первые лагеря по подготовке моджахедов на территории Пакистана, они возникли в 1974 году, за четыре года до апрельской революции. И это готовилось для свержения Мухаммеда Дауда. Потом это трансформировалось, власть в Кабуле сменилась и это стало направлено против новой власти. Потом пришли мы, это еще и на нас распространилось. Но зачатки этого движения с религиозной идеологией, оно там находится. И оно имеет, кстати, исключительно политические причины.
М.Ш. – То есть мы видим главный рецепт против такого перехода к терроризму, к радикализму в принципе и экстремизму в политике. В первую очередь, получается, не идеологизированная власть. Или власть, которая в принципе позволяет ненасильственно проявляться той или иной идеологии. Учитывать все интересы.
А.К. – В принципе да, в гипотезе. Но на самом деле еще необходимо мастерство этой власти, которая сумеет найти в каждой конкретной ситуации нужные решения, чтобы сбалансировать. Есть же интересы другой части общества.
В Казахстане существует большая часть общества, ценности которой сориентированы на абсолютную светскость, особенно в городах. Для которых все религиозные проявления несколько чужды. Это не только в Казахстане. Это я наблюдаю, например, за мировоззрением таджикских товарищей. Масса горожан, например, в Душанбе, которые чураются всего религиозного. Они, тем более, обожжённые гражданской войной, где этот элемент тоже присутствовал. Но надо все интересы учитывать. Это вопрос мастерства власти, это вопрос компетентности власти. Ее стремления действительно найти нужные компромиссы в обществе, которые позволят эволюционно, мягко выходить из каких-то конфликтов. Не допускать конфликтных ситуаций, которые могут породить экстремизм и затем террористические проявления. А то, что касается политического заказа, внешнего заказа какого-то на терроризм, здесь уже работа исключительно соответствующих компетентных органов.
М.Ш. – С другой стороны если в самой стране нет причин для терроризма, это будут все равно какие-то одиночки? Как Красная бригада.
А.К. – Как шутил один наш коллега «стрельба в большом городе – это нормальное явление современности». Это конечно грубая шутка, циничная. Но тем не менее... Такие вещи могут быть. Это же могут быть… люди могут пойти на некий теракт, исходя даже просто из каких-то личных обид на этот мир. Будучи чем-то лично ущемлены. Будучи психологически неуравновешенными, скажем.
М.Ш. – Если честно говорить, сколько у нас там… если считать погибших во все терактах, причем включая самих террористов, у нас где-то не больше пятидесяти человек. За период с 1991 года.
А.К. – Я не знаю, не цинично ли это будет звучать, но в принципе для Казахстана, по масштабам Казахстана, я бы не сказал, что это много.
М.Ш. – Если у нас только в городе Алматы погибает от 100 до 150 человек в ДТП каждый год. А в целом по стране было до 5000, а сейчас где-то 3000 в ДТП погибает. Плюс насильственные преступления – 6000 человек. То есть на этом фоне, 6000 каждый год и 50 за 27 лет независимости. То есть получается все-таки пока мы еще эту грань фактически не перешли и лучше бы нам, конечно, не переходить.
А.К. – Есть страны, на которые мы смотрим как на пример некий развития по каким-то вопросам. Можно взять тот же Израиль, предположим, где террористическая активность в разы и на порядки выше. И она требует огромных ресурсов со стороны государства для ее предотвращения, локализации, купирования этой проблемы. Даже европейские страны, в принципе. Это не значит, что нужно расслабляться, потому что расслабление соответствующих компетентных органов может сыграть дурную шутку. Мне кажется в случае с алматинским стрелком – это как раз тот случай, когда правоохранительные органы несколько расслабились. Он, может быть, попытался бы сделать то же самое. Но потери могли быть значительно меньше, если бы сработали более профессионально, более оперативно.
М.Ш. – На профессиональном [уровне] это бы кончилось бы в первые пятнадцать минут, насколько я знаю, как это происходило. Это кончилось бы тут же. Фактически.
А.К. – Это говорит о том, что расслабляться не стоит.
М.Ш. – Да. Это, с одной стороны. С другой стороны, получается, у нас все-таки пока еще уровень... Политический конфликт, который приводит к такому – это же все-таки нужна какая-то организация в политическом конфликте?
А.К. – Некий актор, он может быть коллективным, в виде организации. Он может быть сосредоточен вокруг одной персоны, которая пытается через террористические методы, через заказ…
М.Ш. – Но он все равно с ресурсами же должен быть?
А.К. – С ресурсами, конечно, да. Это может быть внешний некий условный противник, который использует такие методы.
М.Ш. – Допустим у нас в Фейсбуке «трындят», призывают, всякую ерунду пишут. Но это же в принципе пока нет организации, пока нет какого-то движения? Это фактически не имеет шансов перелиться именно в какую-то такую деятельность.
А.К. – Пока не имеет, но это не означает, что это не заслуживает внимания.
М.Ш. – Нет, ну заслуживает!
А.К. – Теми, кто должен это внимание проявлять. Сами знаете кто.
М.Ш. – Да. Ну надо отлавливать и сажать.
А.К. – Не обязательно сажать надо смотреть если есть нарушение закона и соответственно следовать этому.
М.Ш. – Предупреждать, штрафовать. С другой стороны, получается таким образом, пока у нас нет хотя бы, условно говоря, какой-то четкой организации, которая бы прямо сказала, что мы организация, у нас устав… ну не устав, какие-то правила есть, политическая программа и так далее – это не может превратиться именно в такой длительный мощный конфликт насильственный?
А.К. – Было же объявление, помните после актюбинского, нет раньше, воины, как они назывались, солдаты халифата, они же заявили о себе как об организации. Насколько я понимаю, организации как таковой не было. Заявить-то легче.
М.Ш. – Да, там человека три было.
А.К. – Была группа сидящих интернет-пользователей, заявляющих о себе, не более того. Взявших на себя этот теракт, который был совершен другими. Здесь еще другая вещь. Понимаете, даже на этом примере. Борьба с терроризмом, работа спецслужб, например, по предотвращению – это ведь не та сфера, которая должна освещаться, и мы должны... общество должно знать детально все подробности этой работы. Поэтому мы ведь не знаем сколько. Иногда бывает, когда спецслужбы делают сообщения, что в этом году предотвратили столько-то терактов. Понятно, что в этом может содержаться элемент самопиара службы. Но это так, предположительно. У нас нет оснований судить в одну или другую сторону, четко иметь представление. Это может быть объективно, а может нам не все назвали. Может было больше попыток предотвращенных. Тоже может быть. Поэтому здесь должно быть доверие. Все, что мы говорили об Афганистане. Должно быть доверие к власти в целом. Правоохранительные органы, спецслужбы – это составляющие госвласти в целом. Если нет доверия к власти в целом, то тогда у нас будет доверие к тому, что и спецслужбы, и правоохранительные органы нас не обманывают, говоря о своих неких действиях. И некий общественный договор между обществом и гос. институтами, он будет в свою очередь вызывать и содействие со стороны общества тому же антитеррору. А сегодня мы все против терроризма, но мы почему-то, большая часть общества с иронией смотрит на деятельность спецслужб в этой сфере. Это значит уровень доверия к власти не на должном уровне. К власти, к государству в целом.
М.Ш. – Мы пришли к тому, что все-таки терроризм и экстремизм у нас – это все-таки политика. Далеко не религия. Это раз. Во-вторых, мы пришли к тому, что все рецепты по борьбе с ним (терроризмом) – это абсолютно простые вещи, которые стандартны для всех. То есть это учет политических сил, политический диалог, искусство политического компромисса, управленческие решения, которые не создают большого дисбаланса в обществе. Это отсутствие коррупции. Это доверие власти и общества друг к другу одновременно.
А.К. – Да. И, кстати, доверие общества к религиозным структурам. Мы не говорили об этом, но это присутствует.
М.Ш. – Чтобы общество доверяло всяким другим религиям. И религиозные конфессии друг к другу относились с доверием, не противостояли друг-другу.
А.К. – Все это достаточно идеалистические вещи на самом деле, но это то, к чему нужно стремиться.
М.Ш. – Ну да! То есть это такие простые вещи как не пей водку, не колись героином и у тебя будет... не воруй и так далее. Все десять заповедей.
А.К. – Не убий, не укради.
М.Ш. – Да-да. Не убий, не укради, живи вот так. То есть мы приходим к тем же самым достаточно простым истинам, которые тем не менее очень трудно выполнять.
А.К. – Человечество всю историю стремится, в целом человечество, к их выполнению независимо от конфессии. Это может быть один из стимулов и развития как такового в целом.
М.Ш. – Ну да. В принципе получается. Но с другой стороны, как бы мы посмотрели, если честно, пока в Казахстане таких пока признаков нет, по сравнению с те же Афганистаном, что так произошло. Но изучать опыт Афганистана нам надо, потому что мы имеем все-таки какие-то определенные наметки, что и у нас может быть такая ситуация. В принципе.
А.К. – Довести можно любую страну…
М.Ш. – В США сейчас какой раскол в обществе мощный. Но тем не менее мы видим, что все-таки везде есть (терроризм), но не везде справляются просто. Мы пришли к банальным истинам, но тем не менее получилось так, что кроме этих истин ничего и нет. Никаких волшебных палочек. Ни с той ни с другой стороны никаких масонов, рептилоидов и также нет какой-то волшебной палочки по исправлению всего этого. И все получается, надо работать.
А.К. – Надо работать.
М.Ш. – И на такой достаточно грустной для наших ленивых людей ноте мы и закончим нашу передачу. Мы говорили про радикализм в Казахстане – религия или политика. И говорили об этом с Доктором исторических наук, афгановедом, востоковедом Алекандром Алексеевичем Князевым. Спасибо большое за беседу.




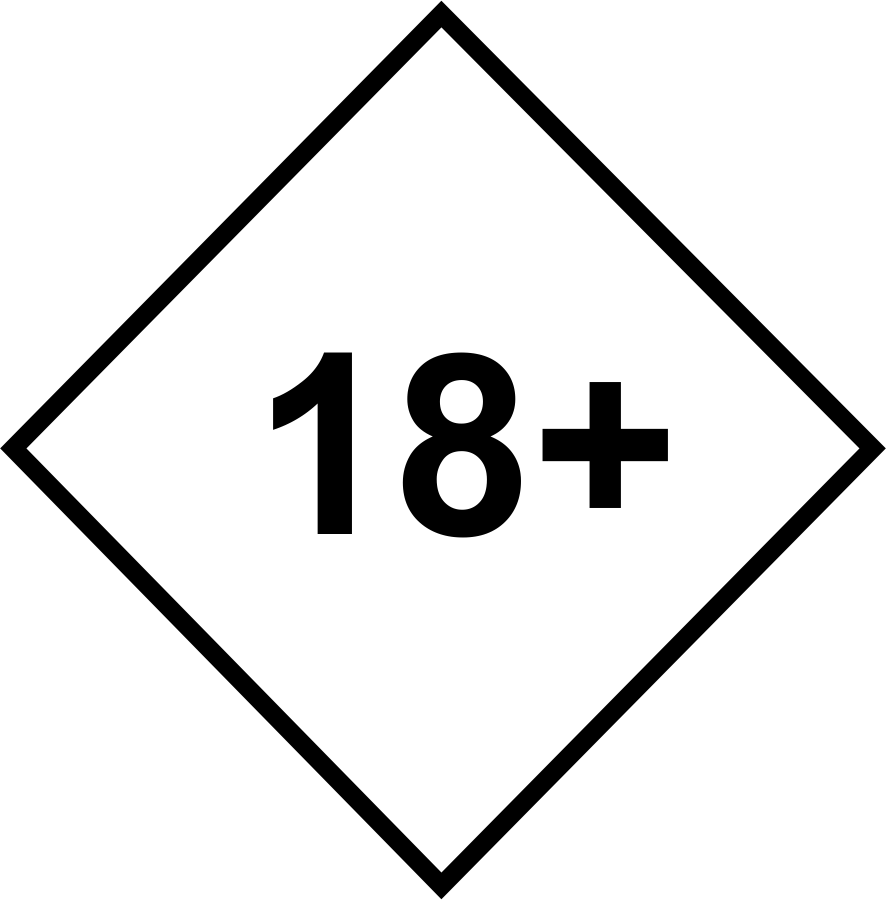 E-MAIL:
E-MAIL: